edgeways.ru
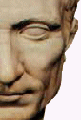 |
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Кулуары•Салон•Полигон•Раскопки•5У•Тех.вопросы•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
|
И почему Гоголь так и не смог придумать Россию Пользователь: rvv (IP-адрес скрыт) Дата: 26, December, 2007 11:40 И вот во второй части «Миргорода» появляется самая загадочная вещь — не только в цикле, не только у Гоголя, но и во всей русской литературе. Она, конечно, не так готична, как «Страшная месть», но волнует, пожалуй, посильнее, и экранизация работы Константина Ершо-ва и Георгия Кропачева (1967) не зря до сих пор пугает детей. В «Страшной мести» хоть в конце становится понятно, из-за чего сыр-бор; в «Вие» не понятно ничего. Андрей Синявский, написавший лучшую, наверное, книгу о любимом авторе — «В тени Гоголя»,— говорил автору этих строк:
«Не понимаю, почему «Вий»! Вий ведь — десятая спица в колеснице, появляется в самом конце, при чем он там вооб-ще?! Почему его непонятным, воющим именем названа по-весть? За что так уж наказан Хома Брут, который ничем, кроме кражи леща, не провинился? Он, конечно, загнал панночку — так ведь не он же к ней пристал, сама напросилась! Ничего не поймешь, никакой логики, один голый воющий ужас: ви-и-ий!» Бывали и экзотические трактовки. Скажем, Новелла Матвеева в за-мечательном стихотворении «Хома Брут» — «Как только подумаю о плачевной участи Хомы Брута, не столько великого грешника, сколько великого плута…» — выдвигает свою версию фабулы: как это право-славного человека, да в храме Божием, извела нечистая сила?! В каком еще фольклоре, в какой прозе такое мыслимо? (Вспомним, ведь и в самых мрачных готических рассказах — английских, немецких ли, аме-риканских — церковь служит убежищем, перед ней нечистая сила пасу-ет!) Матвеева предполагает, что Гоголь с его жизнерадостным, вполне украинским нравом и здоровым мировоззрением испытывает ужас перед византийской традицией, перед ее суровостью и аскезой: «Таких и грешников не бывает, какие у них святые». Очень может быть, что некий подсознательный страх перед церковью и впрямь преследовал Гоголя (потом страху добавил достопамятный о. Матвей, в последние годы исповедник Гоголя, вечно пугавший его жуткими картинами ада): действительно церковь в «Вие» выглядит идеальным местом для всякой нечисти, ведьмы тут чувствуют себя, как дома, и не зря в финале мы видим храм, заросший дикой и небывалой растительностью. Но дело, конечно, не сводится к страху перед византийской росписью и обрядно-стью: «Вий» — исповедальная, самая откровенная повесть Гоголя, и страх, лежащий в основе ее, куда более навязчив, чем все прочие фо-бии героев его ранней прозы. Тут начинаются глаза: жуткий призрак, сопровождавший Гоголя всю жизнь; на этом он и рехнулся, хотя рех-нулся, так сказать, со знаком плюс — не деградируя, но, напротив, умудряясь расти над собою. Мы найдем отголосок этой же фобии у Достоевского в «Идиоте», в сцене, когда князя Мышкина будет преследовать чей-то безотрывный взор (мы знаем, что это взгляд Рогожина); у того же Синявского в вели-ком рассказе «Ты и я» герой будет ощущать на себе тот же припекаю-щий взгляд, чего-то ждущий от него, и все время будет бояться, что это за ним следит КГБ,— а следит на самом деле Бог, от чьего имени и написан рассказ; вот у кого мы все под колпаком! Но впервые эту тему вывел в русскую литературу Гоголь, у которого едва ли не главный лейтмотив — упорно следящие за героем (и автором) невидимые, страшные, требовательные глаза; взгляд, от которого некуда деться. Ничего удивительного тут нет — если долго всматриваешься в бездну, не удивляйся, что бездна посмотрит в тебя. Это сказал другой безумец, Ницше, которого тоже преследовал чей-то взгляд… Вспомним «Портрет» — из более позднего гоголевского цикла петербургских повестей: самы-ми живыми на портрете страшного старика были именно глаза, от при-цельного взгляда которых некуда было деться. И потом, в «Мертвых душах» (к которым, собственно, мы и пишем предисловие, но не можем подойти к ним без рассказа о главном гоголевском страхе) появится лирическое отступление о России, которая смотрит, смотрит на автора «чудным своим взором», словно чего-то хочет от него… но чего? «Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обра-тило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недо-умения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное об-лако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть ме-сто, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» Осмелимся высказать догадку: Вий, собственно, и есть Россия. Страшная старуха, обернувшаяся панночкой (вспомним, ведь старуха слепа, она шарит — и не видит),— здесь начало той двойственности, которая Гоголя в конце концов и сгубила. Пока она пребывает в своем обычном состоянии, в дневном, бытовом обличье — она слепа; как только из нее вылезает жуткая (и божественно прекрасная) ведьмин-ская сущность, панночка немедленно прозревает и уж тут отлично зна-ет, куда ей надо нестись верхом на философе. Кстати, ведь и Вий ниче-го не видит — надо специально поднимать ему веки, и уж тут перед его взглядом ничто не устоит. Почему? Потому что вся мировая пустота упирается в тебя: бездна, в которой нету дна, проблеска, края, вообще ничего нету. Этого взгляда пустоты не может выдержать никакая полно-та: живой, радостный, лукавый Хома Брут падает замертво. «Вий» — вещь пророческая. Россия сожрала Гоголя, взглянула на не-го своими безотрывными ночными глазами и выпила всю южную жизне-радостность; за дневным ее обликом — старушечьим, почти кротким — он увидел ночной, мертвый. Он понял, что и сама она мертва,— и при-нялся писать «Мертвые души», посвященные этому жуткому прозрению. Не дописал. 2 Провинциал, покорив родной Миргород или Конотоп, устремляется покорять Москву или Петербург; выдумав Украину, Гоголь решил изо-брести теперь Россию. Задача безусловно титаническая — даже Пушкин, при всем своем самомнении, на нее не посягал; подлинная энциклопе-дия русской жизни была написана много позже, и смешно называть так «Онегина» — с его более чем поверхностными картинами усадебного быта; «Онегин» написан совершенно не про то, хотя сосущая русская пустота и там стала главной темой. Все приличные люди — лишние; что им делать? Лишний человек обречен убивать, обманывать, оскорблять, и при этом ему решительно никакой радости от всего этого; но какая же тут энциклопедия? За энциклопедию взялся Гоголь. Есть работа ростовского психиатра В.Чижа (он жил в начале XX века и пропал без вести вскоре после революции) о том, что психическая болезнь примерно с 1842 года оказывает решающее влияние на жизнь и творчество Гоголя: он потому не мог ничего написать, что начал неук-лонно деградировать. Все это бред, никаких черт деменции в уцелевших главах второго тома нет, да и «Выбранные места» — гениальная книга, при всех авторских заблуждениях и парадоксах. Гоголь перестал пи-сать, потому что поставил себе непосильную задачу, а на решения компромиссные, половинчатые был в силу своего величия неспособен. Он выдумал целую Украину — неужели не справится с ее северной соседкой? Он и тут выбрал правильную стратегию: сначала решил опи-сать один город, резко отделенный от остальной России (заметим, что в «Вечерах» Киев — органическая часть украинского мира, а Петербург поздних повестей — совсем не то, что остальная Россия; он и тут все понял!). Петербург получился, и не зря Толстой (хотя кому-кому эту фразу потом не приписывали!) признавался, что вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Правду сказать, не лукавил и Чехов, выводя всю русскую юмористику из «Коляски» (хотя чего уж особенного в «Коляске»? Просто анекдот о расхваставшемся человеке, которому нечем хвастаться; призадумаешься — и поймешь, что ничего более точного о национальном характере действительно не написано). Но Петербург — далеко не вся Россия, и Гоголь предпринимает первую вылазку во глубину новой Родины: пишет «Ревизора», в котором, в сущности, уже присутствует фабульная модель «Мертвых душ». В про-винцию приехал свежий человек, его приняли за другого, все поверну-лись смешными и жалкими сторонами, дико перепутались (отчего вся провинция так пугается любого нового человека, подозревая в нем то ревизора, то капитана Копейкина?), и герой уехал, успев поживиться. В «Мертвых душах» все то же самое, только странствует герой уже не только по губернским городам, но и по усадьбам российских помещиков. С «Ревизором» все получилось, с первым томом «Мертвых душ» — тоже; но ведь Гоголь никогда не был социальным реалистом. Он писал нацио-нальные утопии, у него была, по-современному говоря, такая специали-зация. Описать быт может вам кто угодно — мало ли было до него укра-инских бытописателей! И комедии писали, и водевили, и повести… Именно утопия, национальный образ, доведенный до последней, исчер-пывающей четкости,— вот что он умел; тут есть, пожалуй, что-то от политтехнолога, которого нанимают лепить имидж политика или пар-тии… только Гоголя нанимала инстанция более высокая. Вот он слепил Украину, вот стал лепить Россию… и тут ему стало не по себе. С Украи-ной утопия получилась. С Россией он уперся в стену, стал пробивать эту стену — только его гигантских сил могло на это хватить!— в одиночку попытался написать всю русскую литературу девятнадцатого века и… надорвался в неполных сорок три года. Штука в том, что русскую утопию написать нельзя. Стоило Гоголю об этом догадаться, как он кинулся прочь из новообретенной страны про-живания — и колесил по всему свету, вплоть до Святой Земли, в отча-янных попытках хоть издали рассмотреть целое; не рассматривалось. Первым делом он заподозрил, что талант его иссяк: решил для пробы выдумать Италию. Тут уже до него потрудилось много народу, но он успешно справился — сочинил отрывок «Рим», в котором Рим действи-тельно как живой, точно так же, как и Диканька, доведенный до почти уродливой красоты. Полнота, жара и густопись такая, что не продох-нешь. Значит, могу; значит, не во мне дело. Но, может, я недостаточно знаю Россию? И он начинает забрасывать друзей требованиями: пишите мне о России, присылайте истории, больше фактов, ведь один человек всего не увидит! Друзья пожимают плечами, но начинают слать факты. Факты все одинаковы, он и сам давно все это знал… Что за черт, почему же у меня не получается национальный образ рая?! Получилась же небесная Украина, которая во столько раз лучше настоящей, что теперь все вслед за мной будут писать о ней только так! Почему у меня не получается российская утопия, почему я решительно не понимаю, куда вывезет чичиковская бричка? Может, я героя взял не того? Но где же мне взять другого героя? Почему я могу выдумать украинского титана — Бульбу, Данилу Бурульбаша, почему я способен написать украинскую красавицу Оксану, почему даже украинский черт у меня добродушен, и почему во всей России я не нахожу приличного человека, кроме Акакия Акакиевича, который и то после смерти оборачивается страшным при-видением? (Это гениальное предчувствие — о том, каким становится маленький человек, превращаясь в мстителя,— Гоголь сформулировал в «Шинели» так иносказательно и темно, что вся русская литература, опьяненная колодовским хохлацким слогом, кинулась жалеть Акакия — и дожалелась на свою голову; скоро он пошел снимать шинели с окру-жающих, и тогда все с ужасом поняли, что Акакий — выдуман, что его нет в природе! Потому и Норштейн никак не может доснять «Шинель», что визуализировать призрак нельзя: вместо несчастного чиновника, бормочущего: «За что вы меня мучаете?»,— все получается какая-то демоническая сущность… и то сказать, что же хорошего может выйти из департамента?) Штука в том, что страна без своей национальной утопии немыслима: мифология — одно, великий проект — совсем другое. Гоголь разобрался бы с русским прошлым, доведись ему писать исторический роман с мистическим элементом (эта задача казалась ему, видимо, мелкой — ее чисто гоголевскими средствами решил в своем фэнтэзийном эпосе А.Ф.Вельтман, писатель второго ряда; у него там действуют и Владимир Красно Солнышко, и Яга, и Кощей). Но его интересовал именно проект, а проекта-то он и не находил. Почему на Украине возможно счастье, описанное в «Помещиках», в «Бульбе», в «Ночи перед Рождеством»? Да потому, что у страны есть национальная конвенция: даже ссорясь на-смерть, Иван Иванович и Иван Никифорович не перестают быть украин-цами. В России же национальная конвенция отсутствует в принципе: каждый человек человеку — волк, предатель и конкурент. Всякий стре-мится самоутверждаться за чужой счет. Все помещики ненавидят друг друга, все чиновники обманывают друг друга и просителей, все город-ничие берут взятки, все подчиненные всех городничих подсиживают друг друга и доносительствуют, а во всех департаментах никто не рабо-тает на совесть, ибо в листы переписки вложены переводные романы… С констатацией этого факта все получилось так хорошо, что действи-тельность до сих пор во всем подражает Гоголю; но с проектом не выхо-дило никак. Ни один из российских помещиков не похож на идилличе-ского Афанасия или умилительную Пульхерию, и дело не в том, что Гоголь от романтизма шел к реализму: эта идиотская схема развития литературы — реализм как высшая и последняя стадия романтизма, сентиментализма и пр.— навязана нам скучнейшим марксистским лите-ратуроведением и до сих пор не опровергнута, а пора бы. Замечатель-ный сказочник Михаил Успенский давно уже сказал, что реализм — не светлое будущее, а убогое прошлое литературы. О том, что перед гла-зами, люди научились писать и петь раньше всего: в самом архаическом сообществе, среди папуасских дикарей, Миклухо-Маклай записал впол-не реалистическую песню — «Саго»: Люди, люди \ Саго делают \ Делают, делают \ Саго. саго \ Люди, люди \ Делают саго… И так далее, пока все саго не будет сделано. Это и есть социальный реализм в самом чистом его выражении. Чуть только человек научится смотреть в небо, он перестает ограничиваться бытом и начинает выду-мывать, фантазировать, измышлять — и литература, ясное дело, дви-жется не к унылому бытописательству, а прочь от него, ко все более смелому вымыслу, к фантастике, притче и легенде. Движение — в том, что от легенды о прошлом (которое все-таки уже было) литература переходит к легенде о будущем, то есть именно к строительству великих национальных проектов, к утопиям и антиутопиям, мечтам и предупре-ждениям. Гоголь сумел выстроить утопию сельскую, воинскую, город-скую — но не русскую: в России у него все почему-то выворачивало на страшную, ночную сказку. И всюду был этот образ неотрывных, требо-вательных, насквозь пронзающих глаз. «Чего ты хочешь от меня?!» — «Выдумай меня!» — «Не могу». Посмотрите, с какой трогательной, обреченной готовностью берется он за дело — «затеивается новый Левиафан… божественные вкушу минуты…» — и отступает, ибо сама действительность заставляет его уродовать и окарикатуривать всякого персонажа. Попробуем двигаться по собственным следам, попробуем изобразить любовную идиллию — «Открой, душечка, свой ротик, я положу тебе этот кусочек…» Никаких старосветских помещиков не получается: Манилова с женой и детьми не жалко. Потом ровно по этим же лекалам попытается написать свою главную книгу Гончаров — и у него тоже ничего не выйдет: душа просит описать обломовщину как идиллию, но в России таких идиллий не быва-ет. Здесь все время надо что-то доказывать — себе и другим, надо рабо-тать — а работать невозможно; чтобы здесь что-нибудь получалось, надо быть чужаком, Штольцем, у которого ни смирения, ни жалости. Штольц, впрочем, такого тут со временем навалял, что все рухнуло,— оно, может, и лучше ничего не делать? «Обломовщина плодотворней, оказывается, была»,— горько пошутила та же Матвеева. Почему укра-инская идиллия удалась, а русская разлезается по швам? Да потому, что жизнь старосветских помещиков, с виду праздная и ленивая, на деле полна напряженного, кропотливого, даже суетливого труда: земля, конечно, сама родит, и крепостные верно любят бар, но надо ведь все это организовать, за всем уследить, чтобы и киселик был, и взвар, и пироги, мягкие и кисленькие… В России же ничего этого нет: дом Мани-лова в запустении, отовсюду торчит бедность, неприбранность, неуря-дица… Пепел, выколоченный из трубок, никем не убирается, а в саду гниют пруды и обваливаются беседки… У Обломова будет все то же — сплошная неувязка вместо хозяйства, всеобщее плутовство, лень, неже-лание работать на дядю… Так всегда и бывает, когда люди не хотят работать, когда они работают не на себя; в «Старосветских помещиках» помещики и прислуга — один народ; в «Тарасе Бульбе» полковники и рядовые казаки — одно войско, одно племя; в «Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче» судья — такой же провинциальный житель, как и тяжущиеся, и уж только потом чиновник. В «Мертвых душах» все друг другу чужие, никто ни на кого не хочет работать, все норовят обчис-тить, обжулить, отвернешься — стащат, и даже колесо в чичиковской телеге приделано кое-как: до Москвы уж точно не доедет. Русская жизнь разваливается: вот, казалось бы, Плюшкин — экономный, рачи-тельный, как любили писать в советской прессе, хозяин… Но и его эко-номия доведена до абсурда, и почему-то у Гоголя в «Мертвых душах» всякий гротеск обязательно сворачивает на карикатуру, а не на утопию. Средства тут разные, используются они подчас бессознательно: что мы запоминаем о Манилове? То, что его сын чуть не уронил каплю из носа в суп; еще помним, что в наружность Манилова «чересчур было переда-но сахару» — и сочетание сопли с сахаром остается в памяти, начисто отшибая всякую симпатию к безвредному, в общем, сельскому недоучке. То же и с Плюшкиным — его заплесневелый хлам, его графинчик в фуфаечке, его старушечья внешность… Наконец, Собакевич: чем не Бульба?! Такой же гротескный, могучий тип, грубиян, забияка — и можно себе представить, каким идиллическим персонажем выглядел бы он среди запорожских козакiв. Но стоит ему попасть в Россию — и перед нами отвратительный хам, лицемер, норовящий даже за покойника содрать подороже… Коробочка — чем не старосветская помещица? Но Гоголь и тут улавливает главную черту русского национального харак-тера — взаимную подозрительность; в каждом встречном подозреваешь врага; все друг другу чужие, всех как будто кто-то заколдовал или проклял — и вот вам, пожалуйста, виновницей чичиковского разоблаче-ния становится именно Коробочка, в чьи замкнутые, коробочно-квадратные мозги не помещается сама мысль о скупке мертвых: «Как это хочешь ты скупать мертвых, государь мой? Нельзя; непорядок; надо доложить». Даже подписав свою сделку, она не может успокоиться: может, продешевила?! Это очень старушечья — и очень русская черта: дело сделано, но ум нечем занять, и мысли продолжают вращаться вокруг единственного события в нудной и бессобытийной жизни: «Как так: приезжал странный человек, хотел купить мертвых, тут, наверное, что-то не так…» Кому не знаком этот тип русского зануды, который уже вроде бы и согласился на все условия взаимовыгодной сделки, но все чего-то боится, двадцать раз передумывает, требует все вернуть «как было» и пытается понять, на чем ты его ловишь?! Да ни на чем ты его не ловишь (хотя ловят все и всех — такая жизнь); он просто все время боится — ревизора, городничего, судьи, доносчика, государя-императора… Все в каждом встречном подозревают противника; даже Ноздрев — обаяха, рубаха-парень, добродушный с виду близнец озор-ников и балагуров ранней гоголевской прозы — оказывается упрямым злопамятным злодеем, да вдобавок таким жуликом, что сам Чичиков против него бессилен. Мир наизнанку, навыворот; никто ни к кому не испытывает добрых чувств, и все патологически боятся! Вот оно что было в глазах Вия: в них — смерть, пустота полная и окончательная; такая же пустота в России — вместо национальной мифологии, совести, веры, вместо души, короче говоря! Вот уж подлинно загробный мир, ведь после смерти так и бывает: на месте живого, яркого, горячего утверждается холодное и безразличное. Гоголь описывает Россию как мир загробный — и не стесняется сравнивать первый том с дантовским «Адом», то есть признает загробность русской реальности,— но тогда, страшно сказать… Тогда райский том — посвященный российской утопии — должен был бы разворачиваться у него в настоящем посмертном пространстве, среди героев, умерших не в метафорическом смысле, а по-настоящему! И намеки на этот райский том, что самое интересное, в книге есть. Я говорю о знаменитом отступлении, едва ли не сильнейшем эпизоде поэмы,— о седьмой главе, в которой Чичиков просматривает список купленных им мертвых душ. Тут настоящая поэзия и настоящие характеры — каждый годится на отдельную главу; тут национальная утопия в чистом виде — люди, работающие себе в удовольствие и дру-гим на пользу; тут нет ни печали, ни воздыхания, ни доносов, ни под-сиживания, ни вечной взаимной подозрительности; тут уже произошло настоящее рождение — в новую, истинную жизнь… «И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадле-жавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехал-ся! Мастер ли ты был или просто мужик и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли или середи дороги переехал тебя сон-ного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог,— где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный ку-пол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в за-тылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!», а сам, под-вязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! пьян, как сапожник, говорит посло-вица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не на-хвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведусь своим дом-ком,— сказал ты,— да не так, как немец, что из копейки тя-нется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав заказов кучу, и пошел рабо-тать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопа-лись твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья рус-скому человеку, всё немцы мешают». Это что за мужик: Ели-завета Воробей? Фу ты пропасть: баба! она как сюда затеса-лась? Подлец Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была приписана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уваже-нье и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от род-ной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На до-роге ли ты отдал душу Богу, или уходили тебя твои же прияте-ли за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того, ни с другого за-воротил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как зва-ли. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью!»» То-то и оно! А почему не любит? Потому что знает, что здесь все равно не будет толку — надо туда, в национальную утопию. Оттого все герои Гоголя и срываются туда пораньше — как Поприщин в безумие, как плюшкинские и коробочкинские мужики в бессмысленную гибель; инстинкта самосохранения нет никакого, жизнью не дорожат вовсе — не зря же дядя Михей, подпоясавшись веревкой, без страха, с необъясни-мым фатализмом лезет на ту же колокольню, откуда только что упал Степан Пробка — которого отчего-то называют Ваней, и ошибки этой не замечает ни автор, ни корректура, да и какая разница, кого как зовут?! Имена и люди взаимозаменяемы… Почему добрый, плачущий при сенти-ментальных воспоминаниях Тентетников не способен ни к какой дея-тельности и по два часа протирает свои маленькие глазки? Потому что никакая деятельность ни к чему не ведет; когда хитрый и расчетливый Костанжогло начинает рассказывать Чичикову, как правильно устроить поместье,— из испорченной рукописи, как нарочно, выпадают две стра-ницы. «Все делалось само». Но и тут Гоголь проговаривается, ибо фа-милия героя красноречива: мужики уважают его потому, что боятся. Костанжогло и в самом деле до кости прожжет любого черными своими глазами, из всякого вытрясет душу — это и точно пример русского хо-зяина, но хозяина такого, который ни себя, ни других не щадит, и отто-го четвертая глава второго тома так безрадостна. Штольца Гоголь напи-сал раньше Гончарова — но любить этого Штольца не мог, и не зря его советы не пошли впрок Чичикову, умудрившемуся провороваться и в новоприобретенном поместье. Счастье, настоящее, чистое счастье, и хохлацкая полнота жизни — в одной только третьей главе, про Петра Петровича Петуха, фантастического чревоугодника. Правду сказать, Гоголь и задумал второй том как чистилище, как картину некоей призрачной полужизни, где сквозь все уже сквозит иной мир. Первый же пейзаж поражает своей фантастичностью, умышленно-стью, он словно нарисован прилежным классицистом, ибо слишком красив и слишком пышен, и непонятно, откуда в средней России, по которой странствует Чичиков, взялись вдруг огромные меловые горы: на Юг его, что ли, занесло? Тентетников гиперболичен, его безделье фан-тастично, так же гиперболичен и не похож на человека громогласный Бетрищев, и фантастически обжорливый Петух, не знающий страстей, кроме чревоугодия; что до откупщика Муразова, то это уж просто ангел. Советское литературоведение учило, что добрые помещики и откупщики получались столь недостоверными потому, что Гоголь не имел классово-го подхода к реальности: доброго угнетателя не может быть, а он, не понимая этого, насиловал свой могучий дар. Это чушь, конечно: Гоголю и не нужно было жизнеподобия. Во втором томе его дар был умнее своего бедного носителя: художник подбирался к райской, загробной части — оттого во втором томе действуют уже как бы и не совсем люди, и даже Чичиков кается. Гораздо интереснее другое: вот описывает Гоголь идеального хозяина (толстовский Левин тоже весь вышел из Костанжогло, а идеально-предприимчивые капиталисты вроде Муразова мечтались потом многим, от того же Гончарова с его лесничим Тушиным до Мамина-Сибиряка с его могутными купцами), и видно, что этот иде-альный капиталист Муразов — совершенно не человек, что все его благосостояние призрачно, вымышлено, что ежели бы он в самом деле так разбогател, в нем бы, в силу условий и особенностей русского обо-гащения, ничего человеческого не осталось… Вот почему нам от второго тома осталось так немного. Автор, видимо, чувствовал, что не везде выдержал тон — почему и сжег книгу: он начал писать откровенно фантастическую прозу, а это требует совершенно иного уровня услов-ности и другой интонации. Конечно, он восстановил бы этот том и напи-сал бы третий, дай ему Бог еще немного жизни, он убедился бы, что находится на верном пути. Все русские гении шли гоголевским путем, описывая блуждания сво-их героев,— и все замирали, как перед закрытой дверью, говоря об их духовных прозрениях. Чичикову не суждено переродиться при жизни; Раскольников уверовал, но это где-то там, «теперешний рассказ наш окончен»; Левин и Нехлюдов пережили катарсис, но его последствия за пределами романа. Дело в том, что все они умерли, и тут наступила настоящая жизнь. Об этой жизни нам ничего не известно. Гоголю стра-стно хотелось ее повидать — почему он так и торопился с отъездом: «Лестницу, подавай скорее лестницу!» — были его последние слова. 3 О том, почему в России невозможна национальная утопия, он не ус-пел сказать почти ничего, ограничившись констатацией: все воруют, все друг друга обманывают, никто никого не любит. Дело, вероятно, в том, что все друг другу чужие, и земля всем чужая; все боятся начальства, все друг от друга зависят… и зависимость эта не только крепостная — ведь в Петербурге главный конфликт разворачивается не между бари-ном и крепостным, а между начальником и чиновником. Россия — за-хваченная страна, в ней правит Начальство, и только его боятся люди; на своей земле всегда работаешь лучше, и это замечает Тентетников, видя, что на крестьянской земле все уже колосится, а у него едва всхо-дит; но дело в том, что ничего своего нет — его тут же отбирают. Все опасаются ревизора — и никого больше. На своей земле так не живут. Гоголь почувствовал, что попал в заколдованное место. Сожженный второй том «Мертвых душ» — величайший символ русской утопии: чтобы она осуществилась, все здесь должно погибнуть, чтобы ничего не осталось, и тогда, может быть, что-то начнется с нуля. Тогда можно будет думать и о третьем томе. Но покуда нам и до второго далеко. 2005 год |
В онлайне
Гости: 120







