edgeways.ru
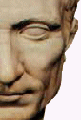 |
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Кулуары•Салон•Полигон•Раскопки•5У•Тех.вопросы•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
|
От кого ушел Толстой Пользователь: rvv (IP-адрес скрыт) Дата: 28, December, 2007 08:08 Апология ухода
Среди толстовцев бытовала легенда, что граф не умер, а ушел. В Ясной Поляне похоронили куклу, сделанную скульптором Меркурьевым с величайшим искусством, из крашеного гипса. Что было делать? За ста-риком по пятам шли дети, попы и корреспонденты. Профанировалась сама идея ухода в никуда. В Астапове он понял, что никакого выхода, кроме подмены, нет. Это вполне укладывалось в его замысел — он ведь начал «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», об Александре I, который приказал вместо себя похоронить запоротого солдата, а сам удалился замаливать грехи в одиноком скиту, в Сибири. Этот роман он и собирался писать — в Ясной, конечно, не было ни малейшего шанса войти в нужное настроение. Да и давно уж ему тесно было в комнате под сводами. Задумано было несколько больших художественных вещей, а знания жизни уже не хватало. Требовались впечатления, встречи с новыми людьми, дорога. Он и в «Воскресении» уже чувствовал недостаточность своих представлений о России и, верно, жалел, что не дано ему пройти этапом с каторжниками. Он написал все, что знал, и хотел узнать новую Россию, которая смутно шевелилась вокруг него и в которой он прозревал величайшее неблагополучие. Все делали не то, что надо, и толстовцы больше всех. Толстовство себя не оправдало, последователи его были почти сплошь или сектанты, или идиоты, или темные, сырые люди из числа учителей, фельдшеров и земцев. Главное же, они были страшно самодовольны. Надо было бежать от всего этого скучного, тяжеловесного предприятия, от угрюмого окружения, от сумасшедшей жены, делавшей ему сцены уже без всякого повода и уверенной, что в Черткове сидит дьявол. Одного взгляда на фотографию Черткова было ей достаточно, чтобы не спать ночь. Ах, какую книгу, какой фильм можно было бы сделать об этом тол-стовском странствии. Он ведь был для своих лет необыкновенно крепок — записывал в дневнике, что делал гимнастику, «несвойственную воз-расту», и опрокинул шкаф. В самую ночь ухода, когда был, по собственному свидетельству, очень слаб,— в пятом часу утра пошел на конюшню сказать, чтобы запрягали. Ночь — глаз выколи, заблудился, попал в чащу, натыкался на деревья, сучья, оскальзывался в грязи, потерял и не нашел шапку, насилу вышел. (Может, это был ему знак — остановись, заблудишься,— но он не умел придавать значения таким лейтмотивам и не признавал суеверий.) Страшная сила все еще жила в нем и гнала его по свету, и если б не болезнь, ходил бы он долго. Путь его лежал на Кавказ — он мог бы не раз и не два еще обойти Россию, закончить роман о старце, начать давно задуманную повесть о духовной любви, на славный приснившийся сюжет… Мог бы ходить до самого семнадцатого года, попасть под подозрение как беспаспортный, пройти путь собственного отца Сергия, оказаться на заимке в Сибири… Мог бы многое еще увидеть — в самом деле, как подумаешь, всю свою жизнь Толстой недоумевал: как это я, такой Толстой, могу умереть. Просто перестать быть, и все. Немыслимо. Идею загробной жизни он отвергал с порога, не верил и в воскресение Христа — в этом смысле вера его была древняя, безблагодатная, жестко-выйная, иудейская. Потому и евреев любил, причем взаимно. В жизни понимал все, смерти не понимал во-все, не допускал ее — и, скорее всего, действительно мог не умереть. Есть ведь, наверное, такие, что не умирают, только мы про них не знаем ничего. Очень может быть, что и до сих пор где-то странствует. Вскоре после войны знаменитая песня «Подайте же мне на питанье, я сын незаконный его», сочиненная тремя московскими интеллигентами, исполнялась в тульских поездах нищим, чрезвычайно на него похожим. Жить подаянием, выдавая себя за собственного сына,— фортель вполне в его духе. Однажды в Ялте, на вокзале, я видел маленького, широконо-сого бритого старика с сердитыми, очень умными серыми глазами. Со-скучился, вероятно, по Гаспре, а бороду сбрил для маскировки. Много, много интересного мог бы он увидеть, скитаясь по России де-сятых годов. Ведь помыслить нельзя: жена, пережившая его на девять лет, умерла при советской власти. Сам он ушел и умер за семь лет до октябрьского переворота. В год его ухода родились Александр Твардов-ский и Ольга Берггольц. В день его ухода Андрей Белый читает в Петер-бурге в Религиозно-философском обществе лекцию «Трагедия творчест-ва: Достоевский и Толстой». Страшно себе представить, какой чушью показалась бы ему эта лекция, и поди ты соположи хотя бы в уме эти две величины — Толстой и символисты, которых он тоже по сути пережил. Ему, благополучно пережившему рождение и кризис народничества, революционного террора, религиозного ренессанса, ему, пережив-шему Победоносцева и трех русских царей,— досталось пережить и символистов, которые с 1908 года сами неустанно вопили о собственном вырождении. Еще Набоков (которому, кстати, в год ухода Толстого одиннадцать лет, и он уже вовсю играет в шахматы) заметил в лекциях об «Анне Карениной», что Толстой первым в мировой литературе разработал принцип хронологического диссонанса: Анна и Левин живут в разном времени. То есть от начала «Анны» до отъезда Вронского на войну проходят три года — однако время Левина до такой степени более плотно, что кажется, будто он за это время прожил и пережил вдвое больше. Каждый герой Толстого существует в собственном времени — даже Катюша и Нехлюдов в последнем, самом трудном для чтения и все-таки самом совершенном его романе. Толстой жил в своей России, которая ничего общего с блоковской не имела. А уже писал свои первые стихи Маяковский, и до слова «футуризм» оставалось два года, а Ленин был уже за границей, а Сталин — в ссылке, а Гриффит уже начал мечтать о кинематографической карьере. Эта синхронность ужаснее всего, и ее-то, в литературе впервые отыгранную Толстым, начало отражать новое, только что родившееся искусство — синематограф. Эта синхронность людей, живущих в разном времени, ярче всего отражается в тогдашних документальных съемках, когда камера еще неподвижна — не изобре-тена еще ни операторская тележка, ни кран, ни ручная съемка,— а перед ней без устали мельтешат в разных направлениях люди. Броуновское движение. Наведем эту линзу на год его ухода — и увидим разно-направленное мельтешение человеческого потока: Блок помирился с Белым после двухлетней ссоры, Коба получил отказ от туруханской проститутки, Розанов и Пришвин увлекаются хлыстовскими радениями, 27 июня Государственная дума утверждает проект столыпинской ре-формы, по которому крестьянам разрешается выход на землю и дается старт русскому фермерству. Ивановский купец Дурылин, из старообряд-цев, открывает собственный музей. Купчиха Воскресенская покупает за две тысячи рублей подлинную кашмирскую шаль и начинает ее распус-кать, чтобы понять секрет вязки; распускать будет три года, еще четыре — налаживать производство, наконец наладит, а тут-то и случится революция, и не будет в России кашмирских шалей. В 1910 году умерли основатель американской прозы Марк Твен и основатель примитивизма в искусстве таможенник Руссо: оба немного сродни Толстому, хотя и проигрывают ему в масштабе. В мае 1910 года создан Южноафриканский союз — будущая ЮАР; 27 августа Япония захватывает Корею. Португалия становится республикой. Впрочем, ненадолго. Мятежи в ней продолжаются до самых шестидесятых годов. Но и в этих разнонаправленных временах легко обнаружить некую генеральную интенцию, общие силовые линии. Начиналось смутное время, и дымку, опустившуюся над Россией, чтобы главное и страшней-шее совершилось в тайне, легко увидеть во всей тогдашней литературе. А прежде всего — в кинохронике. Дым, туман, метель. Все размыто. Исчезло повествование — вместо него рваная цепочка фрагментов. Большой связный текст, поэтический эпос, прозаическое масштабное полотно не под силу уже никому. В литературе возобладал формат кинодрамы — новелла, экранизация романса; те же романсы пишет и Блок — самый чуткий из символистов. В сгустившемся тумане видно на метр, на полметра, на протянутую руку — этого хватает едва на десять-двадцать страниц прозы, роман распа-дается в руках. Склеить время под силу разве что Толстому, но и он в сгустившейся — глаз выколи — темноте не видит ни зги. И самое стран-ное, что в ощущении этом он един с Блоком: оба в один голос повторя-ют в десятом году — «ничего не помню». «Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. Никогда думать не мог прежде о том со-стоянии ежеминутного памятования своего духовного «я» и его требований, в котором живу теперь почти всегда. И этого не могло бы быть, если бы я сознавал, помнил прошедшее». Это вполне буддистский принцип — «на высших ступенях знания внешние признаки ничего не значат». Отказ от памяти о событиях, фактах, образах — ради сознания своего духовного «я»; и это состояние испытывала тогда вся интеллектуальная Россия, улетевшая в эмпиреи от реальности. Реальность уже занавешена, скрыта, размыта; и Толсто-му буквально вторит Блок: Идут часы, и дни, и годы, Хочу стряхнуть какой-то сон, Взглянуть в лицо людей, природы, Рассеять сумерки времен… Там кто-то машет, дразнит светом (Так зимней ночью, на крыльцо Тень чья-то глянет силуэтом, И быстро спрячется лицо). Слова?— Их не было.— Что ж было?— Ни сон, ни явь. Вдали, вдали Звенело, гасло, уходило И отрывалось от земли… Что до толстовского ухода — он у Блока предсказан еще в феврале все того же десятого года: С мирным счастьем покончены счеты. Не дразни, запоздалый уют. Всюду эти щемящие ноты Стерегут и в пустыню зовут. Повод у всех был разный, реакция — примерно одинаковая. В шест-надцатом году солдаты повторили толстовский уход, развернувшись и отправившись по домам с фронтов. А в семнадцатом и вся Россия ушла куда глаза глядят — половина интеллигенции оказалась за рубежом, да и прочее население сорвалось с места, чтобы начать оседать только в семидесятые годы. А в восьмидесятые опять сорвались. Когда страна никак не может решить, каковы ее приоритеты, она обречена ходить с места на место, как загадочные ходуны — последователи Толстого, модернизированная версия бегунов. Когда он ушел, вернейшие последователи тоже пошли странствовать. Так все и ходили. Между прочим, и Ленину не сиделось на месте — всю жизнь его носило по Европе, а оседлая работа в Москве, во главе СНК, сводила его с ума. Страшно заглянуть в себя, не на чем успокоиться. И тогда остается одно — метаться, как метался всю жизнь Гоголь, как странствовал Лер-монтов, носимый по свету, как дубовый листок, как бешено и неостано-вимо ездил Бунин. Толстой всю жизнь сиднем просидел в Ясной Поляне для того только, чтобы раз и навсегда понять: правды нет даже в его учении. «Удирать, надо удирать»,— повторял он в бреду. Единственная русская правда — бежать, потому что остановиться нельзя ни на чем. Почему, собственно, он ушел? Ответ довольно прост и сформулиро-ван почти всеми его христианскими критиками: вы, мол, граф, отважно разоблачали ложь и зло в человеческих отношениях, но так и не поня-ли, что главным его источником является безверие или маловерие. Так писал ему в открытом письме врач Апраксин, бывший его последователь,— да и немало было у него таких разочаровавшихся последователей. В сущности, толстовский выбор — сектантский, выбор человека, который не в силах примирить для себя Ветхий и Новый заветы, и, будучи по сути своей человеком сугубо новозаветным, пытается сам себя принудить к чистой и духовной жизни по христианскому канону. Кто не решается признать коренную несовместимость Ветхого и Нового заветов, как отважился сделать это Флоренский, кто не может сделать этого выбора, тот обречен не двигаться, а ходить по кругу. И таким хождением была вся русская религиозная жизнь. Отсюда и череда рас-колов по любому поводу, и противоречие между российской государственностью и российским религиозным служением. Невозможно вечно замазывать пафосом эту трещину. Толстой ушел ходить, но и хождение его было бы хлыстовским неостановимым кружением, потому что от себя уйти некуда. Так и описывал бы круги по России. Толстой — опыт величайшего поражения в истории русской мысли. От этого поражения он и ушел. Все разговоры о том, что уход Толстого вызван разногласиями с женой, на самом деле не стоят ломаного гроша: Толстому было куда уехать, было где жить. Он выбрал странствие — как выбирают отказ от любой проповеди, от любой оседлости, от всякой окончательной точки зрения. И выбор этот коренился в самом его художественном методе — методе сугубо ветхозаветном, в котором главным становится отрицание условности — тогда как только эта условность и драгоценна в человеческой жизни, вынужденно ограниченной и скудной. Лидия Гинзбург определила толстовский метод как апофеоз недове-рия. «Воробей сделал вид, будто клюнул зерно». В основе всех чувств, всех душевных движений лежат похоть, тщеславие и ненависть к себе; в этом мире дар ощущается как бремя. Отсюда и постоянный толстов-ский страх собственной неправоты, неуверенность, оголтелое самоотри-цание, отсюда «загадывание», о котором он столько писал и с которым столько боролся. Едва ли не больше времени, чем писанию, посвятил он раскладыванию пасьянсов. Все это был поиск некоей конечной, абсо-лютной истины — он еще в 1910 году принуждает себя в дневниках «отказаться от загадыванья». Но отказаться нельзя — сомнение в себе сильнее всех других сомнений. И уходил он, конечно, не от жены. Он уходил от себя, а это самое бесполезное бегство. Идти он собирался сначала к приятелю, сначала крестьянину, потом военному писарю Новикову, просил его найти комнатку в своем доме, а потом — крестьянскую избу. Ответ Новикова догнал его уже в Астапове. Тайны, как видим, из ухода не вышло: находили его даже письма. Но-виков писал, что комнату найдет, а хату искать ни к чему: перемена условий жизни, писал он, теперь не нужна. Ему невдомек было, что перемена условий жизни давно для Толстого неактуальна, что не из-за роскоши он хочет уйти, а из-за тупика, в котором оказался. Всякая деятельность бессмысленна, бездействие постыдно, а странствие есть бегство, единственное бегство в чистом виде. «Удирать, надо удирать». На последнее письмо Новикова Толстой приказал ответить: «Побла-годарить. Уехал совсем в другую сторону». Ответ многозначительный. Он продиктован 3 ноября. Толстому оста-ется неделя. «Уехал в другую сторону» — значит умер. Удрал наконец. «Благодарю тебя за твою честную сорокавосьмилетнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Сове-тую тебе помириться с тем новым положением, в которое ста-вит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувст-ва. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я» — надо же было в прощальном письме к жене вбить такой клин между матерью и дочерью! Откуда в нем, небывалом знатоке человеческой психологии, была такая нравственная, духовная глухота — понять не-возможно. Впрочем, оно вполне понятно, если учесть, что смысл жизни он видел в преодолении всего человеческого — тогда как только это человеческое и ценно, только это милосердие, слабость, сентименталь-ность и составляют единственный смысл жизни. В прозе его таких оза-рений немного — разве что братание солдат в четвертом томе «Войны и мира» под шепчущими, перемигивающимися звездами, да «Отец Сер-гий». Это было чуждо ему, он отринул это — и потому к христианству никогда не подошел даже близко. Ветхозаветному пророку не дано совершить этот прорыв — а того, что было ему дано, он уже не ценил. Дано же ему было ощущать жизнь во всей ее великолепной жестоко-сти, торжествующей грубости, цветущей полноте — и уйти от такого мироощущения можно только в смерть. Когда такое решение приобретает мыслитель — это вещь понятная, хотя и трагическая. Но когда нечто подобное делает вся страна — это самоубийство с куда более кровавыми последствиями. Россия повторила его путь, ибо гениальным инстинктом художника он угадал главное: всеобщее стремление сорваться с места, ибо никакого разрешения внутренних противоречий быть не может. Эта евразийская раздвоенность, вечный конфликт Ветхого и Нового заветов в от-дельно взятой стране привели к тому, что миграция стала главным занятием населения, а понятие дома надолго утратило смысл. В 1914 году на фронт поехали эшелоны, в 1922 году на Север, а в 1934 году на Восток поехали «столыпинские» вагоны с арестованными, в 1956 году выжившие вернулись, а молодые устремились на целину, и еще в шестидесятые-семидесятые многие пели, что их адрес — Советский Союз, а бродячая жизнь была идеалом для многих, ибо только безостановочным пожиранием пространства можно было заполнить страшную внутреннюю пустоту. Страна шла по толстовскому пути упрощения, по дороге отказа от условностей, в ней все скучнее и невыносимее было жить — и царство поздней советской империи было почти так же скучно и безблагодат-но, как поздняя толстовская проза или его теоретические трактаты. Несколько раз у страны был шанс определиться наконец, чего ей, собственно, хочется. Но она всякий раз предпочитала срываться с мес-та: вглядеться в себя отчего-то было страшно. Царство Божие, конечно, внутри нас, но если не допускать, что оно есть и еще где-то,— трудно себе представить, что жизнь вообще воз-можна. И никаким нравственным самосовершенствованием, никаким непротивлением злу тут ничего не поправишь. Уход Льва Толстого был радикальным художественным жестом сродни сожжению второго тома «Мертвых душ». Однако повторение радикальных художественных жестов в общественной жизни чревато национальными катаклизмами, единственным последствием которых стано-вится оскудение и вырождение нации. В этом смысле Лев Толстой, безусловно, был зеркалом русской революции. А точнее — она была зеркалом Льва Толстого. Он не мог, конечно, знать, что уход из родового гнезда обернется приходом в курную избу. Но с ним это и случилось — не захотев уми-рать на черном кожаном диване, он умер в домике начальника станции. Либо терпеть сложную и душную жизнь со всеми ее несовершенствами, либо соглашаться на многократное преувеличение всех несовершенств и уничтожение того единственного, ради чего стоило терпеть; иного не дано. 2005 год Д.Быков |
В онлайне
Гости: 113
 От кого ушел Толстой
От кого ушел Толстой