edgeways.ru
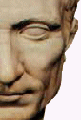 |
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Кулуары•Салон•Полигон•Раскопки•5У•Тех.вопросы•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
|
И я обожаю Феллини! Пользователь: rvv (IP-адрес скрыт) Дата: 27, March, 2011 17:57 ТОЛСТЫЙ АНГЕЛ
Всякий раз, как смотрю Феллини, я поражаюсь его всемирной славе. Казалось бы, это совершенно маргинальное кино, но как он умудрялся достукиваться лично до каждого? У Нагибина в дневнике про Феллини сказано, что он «стыдливый импотент» ― правда, это в сравнении с Пазолини, который в классификации автора «осатанелый педераст». Нагибин много чего понаписал про современников, резкого и верного, и надо признать, что такой взгляд имеет право быть: в каком-то смысле все человечество делится на Феллини и Пазолини, то есть на ангелов и демонов, причем в ангелах много чего намешано, а демоны бывают отменно хороши собой и эстетически одарены. Проблема в одном: ангелы талантливей. Демонам для того и нужен демонизм, чтобы компенсировать недостаток умений. Демонов ценят по совокупности ― как явление природы: отдельные их сочинения, как правило, редко переживают свою прижизненную славу. А память остается. Покажите мне сегодня людей, которые регулярно и с удовольствием пересматривают «Свинарник», «Теорему» или «Салó», или даже «Евангелие от Матфея», которое целиком осталось в своем времени, прости меня Господи, при всем моем почтении к этой лучшей из экранизаций Евангелия. С Феллини вышло наоборот, как и всегда получается с ангелами: фильмы помнят все, а самого совершенно не видно. Непонятно, что за человек был. Остался автошарж ― толстый, в шарфе; но откуда он все это знал и брал ― совершенная загадка. Так называемые автобиографические фильмы вроде «Амаркорда» и отчасти «Рима» излагают общие воспоминания, которые, вот штука, оказываются общими не только у итальянцев, а у всех зрителей, включая сегодняшних подростков. Обязательно был туман, обязательно в школе подглядывали за купальщицами, обязательно какой-нибудь безвредный псих сидел на ветке и орал: «Хочу женщину». Кино Феллини рисует не столько внешнюю канву его жизни (он умудрился почти ничего не рассказать о себе), не столько даже психологический портрет (есть ощущение перманентного кризиса и таких же перманентных воспоминаний о том, что когда-то было хорошо ― как всегда у ангелов), а общее, смазанное, трудно поддающееся анализу настроение. Штука в том, что только это настроение и есть, грубо говоря, смысл жизни, главное в ней, то, ради чего все. Прежде чем переходить к вещам тонким, почти неформулируемым, вспомним ту самую внешнюю канву его биографии, которая в искусстве как раз никак не отразилась. Он родился 20 января 1920 года в Римини. Рос хилым и болезненным, как большинство гениев, зато почти ничем не болел после. Играл в театр, любил цирк. Монастырская школа, переезд во Флоренцию, потом в Рим. Начинал с журналистики: тоже обычное дело для гениев, причем именно ангельского типа. Демоны предпочитают нигде не работать, живут на содержании либо воруют. Я почему так подчеркиваю его любовь к журналистике? Не потому, конечно, что примазываюсь, а просто это характерный штрих: в журналистику идет человек любопытный, во-первых, активный, во-вторых, склонный к риску, в-третьих, и глубоко верящий, что от его личных усилий может зависеть судьба мира. Я где-то когда-то, не помню уж, читал такое высказывание Ленина о партийном журналисте ― у него должно быть чувство, что без него не обойдется. Вот у Феллини было такое чувство, а иначе он не снял бы ничего; утвердить в мозгах и душах миллионов такую сложную вселенную, как его кино,― можно было только благодаря бесконечному напору. Иногда мне кажется, что его конечная победа ― всемирное признание, слава классика, абсолютная актуальность наследия, так и не ставшего историей,― несколько сродни, не бейте меня ногами, победе, простите меня тысячу раз, христианства в мировом масштабе! Ведь христианство ― это религия, которая ни в каком случае победить не могла: она бесконечно тонка, сложна, сулит очень мало конкретного при жизни и не дает загробных гарантий, скептически относится к чудесам и негативно ― к суевериям, вообще доступна ничтожному проценту исключительно продвинутых людей (по крайней мере, на вид)! Но победила же всех прочих, хотя апеллирует, казалось бы, не к распространенным и легко возбудимым инстинктам вроде зверства, а к тонким эмоциям вроде умиления или милосердия. Вот только по этому параметру я и сравниваю кино Феллини с учением Христа: кажется, что для «малого стада», а выходит ― для всех. Почему? А потому, что в душе все хотят быть хорошими, и христианство (как и кино Феллини) предлагает наиболее привлекательный образ хорошести, такой слегка иронический. Его монтажный ритм совпадает с сердечным. Мне рассказывала Ина Туманян, чудесный режиссер: собирались, бывало, молодые режиссеры шестидесятых посмотреть, как у Феллини в «8 1/2» или в «Сладкой жизни» сделан монтаж. Садятся, смотрят ― и не могут разбирать, втягиваются! А потому что не думаем же мы, как дышим? Иное дело, что для утверждения такого учения ― или мировоззрения, или способа монтировать кино,― надо было обладать нечеловеческим драйвом, а человеку с таким драйвом куда было идти работать в XX веке без риска продать душу? В журналистику. Потому что два других варианта ― политика и шоу-бизнес ― душу таки едят. Ну вот, и он был журналистом, и довольно успешным, хотя мечтал о литературе. Напечатал в журнале «Марк Аврелий» около тысячи юморесок и карикатур. Рисовал стремительно и очень недурно, в чем может, перевернув пару страниц, убедиться читатель. По манере ― несколько в духе Эйзенштейна; большинство экспликаций к фильмам сам уничтожал, сохранилось процентов двадцать нарисованного плюс ранние скетчи в картинках. Пытался учиться на юриста, бросил. Во время войны откосил от фронта. Желание превращать все на свете в цирк было в нем сильнее инстинкта самосохранения: даже откашивая от армии, он меньше всего заботился о правдоподобии и больше всего ― чтоб было смешно. В психбольнице он косил под магараджу: замотал лоб полотенцем и расхаживал голый. Как ни странно, именно это и показалось убедительным: другие старательно имитировали манию преследования или величия, а этот, кажется, действительно был псих. И не поручусь, что это было не так. Скоро начал сочинять монологи для радио и там как раз познакомился с их исполнительницей, Джулией Мазиной, на которой вскоре женился и которую заставил сменить имя на Джульетту. Мазина была «Чаплином в юбке» не только в смысле таланта ― сейчас уж и не вспомнить, кто ее так прозвал после «Дороги»,― но и в смысле гигантского расстояния между кинообразом и реальной личностью. Она всю жизнь играла робких, зажатых, даже и придурковатых ― исключая пятисерийную «Камиллу», где она была почти собой, почему картина и не имела успеха. В действительности она терпеть не могла эти экранные образы, особенно главную героиню «Джульетты и духов»: все это Федерико, говорила она. Робкий, закомплексованный, очень католический, в детстве боявшийся ада, в зрелости ― чужого мнения… Сама она была, как Чаплин, высокопрофессиональна, холодна, временами цинична (другая не сыграла бы такую Джельсомину ― тут нужна ледяная, безжалостная наблюдательность), и воля у нее была сильней, чем у Феллини, и в быту она ориентировалась лучше, и деньги лучше считала (он всю жизнь боялся разорения, а она нет). И образование у нее было высшее, филологическое, а у него вообще никакого, и читал он в детстве куда меньше, начал глотать книги после тридцати, когда вдруг навалилась бессонница. И в физической форме она себя держала безупречно, ездила до старости на велосипеде, бегала, плавала,― а он вообще об этом не задумывался, много и с удовольствием жрал, спорта не понимал в принципе и даже не смотрел футбол, машину перестал водить, когда случайно чуть не сбил маленького велосипедиста, и с тех пор ездил только с шофером. Прожили оба по 73 года. Из чего мы видим, что дело совершенно не в том, сколько ты ешь и занимаешься ли спортом. Детей у них не было: сначала у нее случился выкидыш сразу после свадьбы, в 1943 году, потом, в 1945-м, в двухнедельном возрасте умер маленький Федерико, названный в честь отца. Не знаю, насколько идиллична была их семейная жизнь,― на площадке Мазина понимала, кто главный, а в доме командовала. Легенда о его распутстве и изменах не соответствовала действительности (как и альтернативная легенда о стыдливости и невинности). Отношения ему были дороже секса, да он и не признавал секса без отношений. Достаточно сказать, что первый его поход к проститутке ― сопровождавшийся отличными впечатлениями и большим взаимопониманием ― привел его к убеждению, что он должен с этой девушкой подружиться, завести отношения; он пригласил ее в кино ― она ответила, что девушкам из заведения запрещено встречаться с клиентами вне его стен, однако она будет очень рада, если он придет еще раз. Он не пришел, обиделся и долго потом раскаивался. Вообще же если у него и бывали романы, то долгие, с совместными поездками и совместной же работой, причем спанье заканчивалось, а романы ― переходя в дружбы ― оставались. Кроме того, многие измены, кажется, он сам же и выдумывал. На съемках ему было не до того, а между съемками он немедленно впадал в депрессию до тех пор, пока не загорался новой идеей. Когда в феврале 1993 года он получал «Оскара» за творчество, сам был спокоен и даже весел, а Мазина рыдала, и он растерянно утешал ее со сцены; любовь, вообще говоря, была большая. Марья Розанова не зря утверждает, что самый крепкий роман ― производственный. Они ссорились с Мазиной редко ― Феллини изложил один такой эпизод весьма насмешливо, но скорей всего выдумал и его: «Однажды мы договорились, что никогда не должны ссориться публично, и довольно крепко повздорили в переполненном кафе, обсуждая этот вопрос». Он был здоров, крепок, потому что не выносил перерывов в работе, а когда режиссер работает (это же касается большинства творческих профессий), он, как правило, не болеет. Единственный раз его прижало в 1967 году, когда во время очередной депрессии с приступами отвращения к жизни он вдруг стал просыпаться от сильнейших сердечных болей и с обычной своей мнительностью решил, что это конец. Обнаружилась небольшая стенокардия, он за неделю отлежался в больнице, но успел понять, что никакого отвращения к жизни у него нет, и задумал очередной гимн во славу всего сущего ― «Сатирикон», одну из немногих своих картин, в которых преобладает веселье. В последние годы его воспринимали как памятник себе, чего он не терпел категорически. Ему хотелось быть действующим режиссером, а не легендой, но продюсеры не давали ему снимать ― авторское кино перестало окупаться. Он негодовал, бешено искал сценарии, прочитал в журнале «Полосатый матрас» Виктории Токаревой, вызвал ее в Италию и предложил написать для него историю любви пожилой женщины к авантюристу, вроде той, что изложена у нее в «Матрасе». Токарева обещала подумать и начала уже что-то набрасывать ― можно себе представить, какую прелесть он бы из этого сотворил,― но тут у него случился инсульт, и после месяца в коме он умер 31 октября 1993 года. Мазина пережила его ровно на пять месяцев, похоронены они рядом. Приближает нас все это к нему хоть на миллиметр? Вряд ли. О себе Феллини постоянно врал или, точней, говорил ту часть правды, которая была ему любезна. Притом что репутация у него была человека открытого. Он с удовольствием пускал журналиста на площадку, если журналист ему нравился; рассказывал и показывал, что собирается делать, и в паузе между съемками охотно водил по декорациям ― особенно во времена «Сладкой жизни», когда он сам был заинтересован в максимально широком пиаре; но и тогда его знаменитые стремительные смены настроения никуда не девались. Вот он дает подробные пояснения во время съемок знаменитой сцены в фонтане ― и журналист, приятель, между прочим, говорит с легкой льстивостью: как хорошо, Федерико, что ты допускаешь в свою лабораторию, другие-то суеверны… ― А пожалуй, ты прав, ― говорит Феллини, внезапно мрачнея. ― Нечего тебе тут делать. Пошел вон. Эта перемена, отлично разыгранная, попала в фильм «Федерико Феллини ― найденный автопортрет». Насколько он тут играет, а насколько в самом деле раздражается ― понять трудно; но вообще-то люди ему в самом деле осточертевали часто и резко, и он, только что само радушие, сбегал с руганью. В молодости пытался деликатничать, в зрелости, вследствие гипертонии, раскрепостился. …Он вспоминал, что делал «Дорогу» трудно, зато, закончив, обрел уверенность в себе и душевный покой. Душевный покой выразился в полугодовой депрессии, неспособности к чему-либо приступить и с кем-либо общаться. Феллини казалось, что он недотянул, что картина вышла половинчата, недостаточно волшебна, скована традицией, что он побежал, а не взлетел,― что вышла обычная сентиментальная поделка. И никакие фестивальные призы ― общим числом пятьдесят с лишним ― не убеждали его в обратном. А вот когда разные компании стали обращаться к нему с просьбой продать бренд «Джельсомина» ― для пудры, духов, конфет,― он понял, что у него получилось. Критерием успеха для него был не восторг кинокритики и даже не успех у публики, хотя он это ценил; истинный успех был ― когда кино уходило в жизнь, когда Джельсоминой стали звать пиццу, а всех светских фотографов после «Сладкой жизни» переименовали в папарацци. После «Дороги» Феллини сказал про Мазину, что она клоунесса и что это высший в его системе комплимент: «Клоунада по сравнению с драмой аристократична». Аристократична в том смысле, что первична, бесстрашна, дорефлексивна (в цирке не рассуждают, а действуют). Актерское дарование можно имитировать, цирковое ― шиш. Аристократизм тоже не рассусоливает, а действует, он тоже силен, а не тонок; это уж опытному зрителю видно, насколько на самом деле строги приемы, с помощью которых Феллини выстраивает свой балаган, как у него точно путешествует камера, как детально мизансценирована вся эта история и т.д. Но кино ведь смотрят не только киноведы, и не для них оно, по большому счету, делается. Зритель Феллини ― простой, здоровый ― его тонкостей не видит. Он видит, как из него пинками вышибаются добрые чувства, и эти пинки ему сладостны. Феллини поймал дух самых разных времен ― и поздних сороковых, когда казалось, что вот сейчас-то мы устроим новый мир, и пятидесятых, когда почти все верили, что рай близок и можно отдохнуть, и шестидесятых, когда стало ясно, что тоталитаризм плодит умных, а свобода ― глупых и жадных. А в семидесятые стало понятно, что вообще всем этим заниматься бессмысленно, а надо душу спасать. После чего ― уже в самом конце жизни ― становится ясно, что душу ты в одиночку не спасешь, что в тебе есть только ты сам, а для спасения души нужно нечто большее: либо масса людей, инициированных великими событиями, либо очень сильная вера, либо такое полное слияние с мировой культурой, что места для личности почти не остается. Есть «состояние Феллини», о котором снято почти все его кино: мир ― страшная и прекрасная дыра, музыка в чумном городе, цирк, в котором намертво сплавлено низкое и высокое. Ничего, кроме беспокойства, ужаса, отвращения и восторга, человек в этом мире переживать не может. Любовь случается эпизодически, и это либо похоть, чуждая всякому уму, либо взаимопонимание, дружба обреченных, которая почти не имеет отношения к похоти. Синтеза этих вещей он не рассматривал, поскольку, что вы хотите, католик. Так должен чувствовать себя ангел, ввергнутый в наш мир. И странно, что ангел в цирке ― одна из ключевых тем мировой культуры в XX веке. Что делает в цирке ангел? Негодует, когда мучают зверей или орут на гуттаперчевых мальчиков. Восхищается канатоходцами. Летает. Ничего другого Феллини и не делал, и биография его полностью описывается этим набором действий. В глобальном смысле больших перемен не произошло. Просто несколько миллионов человек захотели быть ангелами, и у некоторых получилось, и это не так мало. Дмитрий Быков // "Story", №4, апрель 2011 года |
В онлайне
Гости: 73
 И я обожаю Феллини!
И я обожаю Феллини!