edgeways.ru
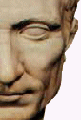 |
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Кулуары•Салон•Полигон•Раскопки•5У•Тех.вопросы•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
|
Костя Райкин - матерый человечище! Пользователь: rvv (IP-адрес скрыт) Дата: 12, October, 2011 09:54 Константин Райкин
К Райкину на интервью можно ходить без диктофона. Вы и так все запомните. Он абсолютный актер — из тех, что уже машинально, без усилия, для каждого слова подбирает четкий жест, для любой мысли — маску, гримаску. А маски его запоминаются. Здесь приведены две наши беседы с ним — 2002 и 2010 годов. — «Макбетт» — это предложение Бутусова, а выбор мой. Он предлагал несколько пьес — сам склоняясь, кажется, к брехтовским «Барабанам в ночи»; но я Брехта не полюбил, он тяжеловесен. А «Макбетт» меня сразил сразу: это очень смешная пьеса. То есть, казалось бы — полный ужас, да? Беспросветность абсолютная, власть уродует всех, народ безмолвствует, будто вообще отсутствует; но вот из этого-то тупика возникает вдруг какое-то светлое ощущение. Очень местное, очень наше на самом деле. Ну да, все ужасно… ха-ха-ха! — Вы не самые легкие пьесы выбираете. — Я выбираю то, что меня цепляет. Сказать вам, в чем заключается мой единственный талант? Без всякой скромности: я очень хороший театральный зритель. Можно спорить, какой я там артист и художественный руководитель, но вот зритель я замечательный, послушный, непредубежденный, насмотренный, и если вещь действует на меня — уж будьте уверены, она и на других подействует. Я скучаю, когда режиссер упивается своей тонкостью: люблю тонкость, но не люблю, когда меня все время тычут в нее носом и вопрошают — ну что, понял ты, как это тонко?! Восхищайся! Я не люблю заумствований. Не люблю, когда заигрывают со мной так или иначе. Мне интересно должно быть. Еще мне не нравятся чистая комедия и чистая трагедия. Я верю по-настоящему только в смешанные жанры. Поэтому и «Сатирикон» — театр трагифарса по преимуществу. А выбор репертуара определяется размерами зала. — И какая тут зависимость? — Очень простая: переезжая в Москву, мы согласились вот на такое помещение. Крайне сложное, потому что Марьина Роща, от метро далеко и тысяча мест. Будь у меня зал на сто человек, я бы иначе строил репертуар. Театр должен быть полон, иначе играть невозможно и вообще бессмысленно все. Если зал на сто — в нем должно быть сто три. Вы должны давать зрителю то, что ему необходимо, то, без чего он сегодня задыхается. — Ну, ну, ну! Что же это такое? — Таких вещей две, на мой взгляд. Во-первых, энергия: она нужна всегда, скучать нельзя ни минуты. Во-вторых, зритель хочет стать лучше или хоть почувствовать себя лучше, но это взаимосвязано. Была дурацкая такая советская идея, что искусство должно влиять на жизнь. Ни черта оно не должно никому, оно самоценно, оно — вот, возьмите, подарок; нечто сверх необходимости, сверх всякого возможного применения. Но оно вас делает — на секунду, на час, на то время, пока вы из театра выходите — таким, каким вы задуманы; и от этой встречи с собой вы радуетесь, делаетесь лучше… Это не значит, что надо одни светлые вещи писать, жизнерадостные,— это тоже по-советски. Есть люди, которые видят мир в исключительно мрачном свете. И обладают исключительными способностями в распространении такого взгляда на мир. Ну — хоть Кафка. И я не думаю, что он повышает настроение. Но когда вы видите сильно сделанную вещь — это само по себе способно внушить… пожалуй что и счастье. — Как вы обольщаете критиков? «Сатирикон» только что не облизывают. — Да?! Вам кажется?! Мы столько про себя интересного читаем — как мы на поводу у зрителя, как мы заманиваем богатых, какие мы рожденные ползать… Ну, правда, это не всегда пишется по идеологическим или тем более по эстетическим причинам. Очень часто по гормональным. Но я это говорю без обид, не обращайте внимания. — Неужели нельзя вообще не обращать внимания на ругань? — В принципе можно. Но артисту нужна… не то чтобы завышенная самооценка, но сознание миссии, что ли, вера в исключительность своих занятий (а не свою личную, конечно). Ведь мы почему поставили ростановского «Шантеклера»? Это трудная пьеса, но на нее очень хорошо идут. Там про петуха такого, романтического, который совершенно убежден, что если он не прокукарекает — солнце не взойдет. Это вопль художника о своей насущной необходимости. Если Шантеклера хотят задвинуть на какие-то двадцать пятые роли — не выйдет. Он на птичьем дворе главный. Без него это собрание будущих котлет. — Мне в последнее время кажется, что «Сатирикон» — в известном смысле театр антибуржуазный. — Во-первых, это не театр сатиры, ни в коем случае. Я не люблю понятия «сатира» вообще, мне не нравится бичевать пороки, язвить, колоть, прижигать каленым железом. Сатира обречена быть плоской. Юмор — это уже лучше, это понятие более объемное, в нем есть милосердие, мягкость, хорошо бы грусть. Во-вторых, у нас не агиттеатр. Борьба — совершенно не мое занятие, я не заигрываю с властью, не ставлю себе цели поссориться с ней и не занимаюсь пощипыванием ее под одеялом. И вообще — какая борьба? Вот я часто себе представляю: прилетят марсиане какие-нибудь. Или метеорит ужасный упадет, или мало ли что… Ну ведь все же будут вместе, все сразу забудут копеечные свои разногласия! Это очень помогает иногда — представить марсиан; обязательно попробуйте, когда войдете в полемический запал. Что касается антибуржуазности — она есть, наверное, на уровне формы: если под театром буржуазным понимать спокойный, расчетливый, приятно веселящий после сытного обеда, позволяющий снисходительно посмеяться над комиками… или, наоборот, такой солидно-реалистический, совершенно традиционный… тогда да, мы совсем не буржуазное явление. — А почему у вас перестали запускать перед спектаклем это язвительное предупреждение — «Просьба выключить мобильные телефоны, продемонстрировать свою крутизну вы сможете в антракте»? — Потому что мобильный телефон перестал быть символом крутизны. Он есть почти у каждого. Это во-первых. А во-вторых, их все равно никто не выключал. — Мы встречаемся с вами в момент довольно драматичный — усиленно валят нашего министра культуры. На него появляются печатные доносы, его обвиняют в защите порнографии, «Идущие вместе» на него бочку катят… — Доносов я не читал, о критике в его адрес наслышан и очень бы не хотел, чтобы Швыдкого валили. Как и кого бы то ни было другого, впрочем. Травля — это в любом случае не метод, она заслуженной не бывает. Я никогда не буду близок к власти — просто потому, что любой человек, попавший туда, вдруг начинает говорить на особенном языке. Слова вроде те же самые, а смысл в них вкладывается другой, скоро я уже не могу поддерживать разговор… Но Швыдкого я знаю тысячу лет, когда он никаким министром и близко не был, и с ним я говорить могу. Он человек необозримой эрудиции. Он любит театр. У него прекрасная речь. Это первый министр культуры с такими данными, и это меня вполне устраивает. При этом я вовсе не хочу сказать, будто у государства есть внятная культурная политика. У меня масса претензий к Министерству культуры в частности и к тому, как власть помогает культуре вообще. Она всегда в России делает это на редкость бездарно. У нас думают почему-то, что власть должна либо культуру давить и тиранить, и тогда это называется заботой,— либо совершенно игнорировать, и тогда это называется свободой; между тем называется это уродливыми крайностями и обираловом вдобавок. Сейчас вернулось все советское — мы отдаем папе выручку, а потом просим на все: на мороженое, на скрепки… При этом государство вообще играет без правил — говорю сейчас уже не только о культуре. Происходит секторное включение честности. Допустим, всем сообщили: играем без правил. Все начинают так играть, и вдруг в одном секторе включается государственное око: нечестно! Сектор непредсказуем, сегодня это может быть искусство, а завтра — экономика. Дорогие друзья, давайте все-таки договоримся: что можно? Допустим, вы сами выделяете нескольких людей, которым можно все. Они начинают действовать соответственно, заполнять весь предоставленный объем, и никто их не упрекнет — ведь Им Можно! После чего вдруг выясняется, что им-то ничего и нельзя, и они подвергаются показательному повешению, хорошо еще, что виртуальному. — Скажите: за два года путинского президентства не было случая, чтобы он вас заставил раскаяться в вашей поддержке? Вы ведь тогда, в двухтысячном году, очень хорошо за это дело огребали… тогда как художников, поддерживавших другую сторону, никто и словом не попрекнул. — По большому счету — нет, он меня ни разу по-настоящему не разочаровал. Есть, естественно, всякие пригорки-ручейки, неизбежные сомнения и недовольства — но в целом мне нравится, как он действует. И даже не это, потому что в этом я понимаю до смешного мало, любой ребенок осведомлен лучше меня. Я доверяю только своей интуиции — как зверь. Это касается и выбора репертуара, и моего политического выбора. Расчет — ничто, нюх — все. Я вижу, как этот человек говорит и слушает. Это меня убеждает. Чтобы обмануть меня, профессионального актера, ничего другого не умеющего, разбирающегося только в ремесле,— он должен быть актером классом выше. Актеров такого класса его ведомство не готовило. — Вам случалось общаться с ним лично? — Да, я доверяю в таких вещах только личному общению. Кроме того, он все запоминает. Я попросил его о помощи, и уже на другой день он помог. — Это делалось не в порядке обмена на вашу поддержку — извините, конечно? — Нет, нет. Уже гораздо позже. Да не так много для него и значила моя поддержка, чтобы устраивать торги. — Как вам кажется: если бы ваш отец, основатель театра, увидел сегодняшний «Сатирикон» — он одобрил бы его? — Думаю, что да. Больше того, я в этом уверен. Отец всегда черпал энергию (вдохновение, высокопарно говоря) не в эстраде, а в серьезной музыке, в серьезной живописи… Смотрел все премьеры Товстоногова, дружил с ним, всегда гордился предложением Мейерхольда поработать вместе… Думаю, он был бы рад, что «Сатирикон» стал репертуарным театром с классикой в афише. Эстрада — отличная школа для актера, надо только следить, чтобы доля ее среди твоих занятий была не слишком высока. Я успел от нее порядком устать. При том, что она меня кормила тридцать лет: существовал такой моноспектакль — «Давай, артист!». Я с ним объездил всю Россию, в Новосибирске собирал полный Театр оперы и балета — три тысячи мест; спектакль продолжался два часа, и я работал его пять раз в день. Местная филармония носила меня на руках (и правильно, потому что сам я ходить уже не мог): я закрывал ей значительную часть плана. Это был мой личный рекорд: тридцать пять спектаклей в неделю, и все это время один на сцене, плюс аккомпаниатор, плюс местный рояль, плюс свет. Накануне своего пятидесятилетия я себе твердо сказал: все, больше я на эстраду не выхожу. Пора сузить специализацию. — В «Макбетте» власть уродует всех. Но вы — хозяин театра: это вас сильно испортило? — Гм… Нет, не думаю. То есть мне так кажется. Я вообще считаю, что правильно выбрал себе профессию, потому что с годами улучшился очень сильно. Не подумайте, что я себя хвалю. Просто вы не знаете, с какого низкого уровня я начинал. Если благодаря своей работе ты улучшаешься с годами, значит, ты делаешь то, что надо,— а если наоборот, то и на черта тебе все? Я умею только это, и если меня выгонят из театра или он еще каким-то способом прекратится — мне решительно нечего будет делать. Поэтому я этим театром живу, а не руковожу им; тут дом. Мне раньше казалось: вот выгнать артиста будет трагедией, я никогда не смогу этого. Очень даже могу, потому что когда у тебя выбор — либо ты будешь жестко руководить, либо прогоришь,— решения принимаются гораздо проще. Я выгнал многих. Поэтому у нас хорошая команда. — Как вы пополняете труппу? Где взяли новых звезд — Сиятвинду, Дениса Суханова? — Я веду второй курс в Школе-студии МХАТ, веду с твердым намерением многих взять в театр. Один будет показывать свой дипломный спектакль — «Снегурочку» Островского — на нашей большой сцене. Вообще в этом поколении много исключительно серьезных, работоспособных и талантливых людей. — Поколение действительно очень работоспособное, но не кажется ли вам, что оно просто деньги очень любит? — Во-первых, в этом не было бы ничего худого, ибо любовь к деньгам — по крайней мере, в молодости — это любовь к независимости, чтобы можно было своим делом заниматься. Но если серьезно — кто сейчас идет в театральный ради денег? Кто не знает ситуации? Туда идут очень сильно беременные. — То есть? — То есть им срочно необходимо с кем-то делиться собой. Талант — это же как беременность или как горб. Хочется сбросить. — К вопросу о горбе. После вашего Тодеро-хозяина мне, честно говоря, стало казаться, что вы боитесь старости. Что она вам отвратительна. Ивы выбросили из себя этот ужас, сыграв гнусного старца… — Да ничего подобного, хотя в принципе вы не так уж далеки от истины — чтобы нечто из себя выбросить, это надо сыграть. Возможно, желание перевоплощаться во всяких мерзавцев вроде Мэкки — своего рода страховка от превращения в них. Но стимул играть Тодеро у меня был простой — это не самая известная пьеса Гольдони, но это пьеса гения. Она не вся выдержана на одном уровне, но старикан написан так, что всякий актер возмечтает это сыграть. Особенно когда ставит Стуруа. У нас получилась, в сущности, песня Стуруа на слова Гольдони — он так трактует финал, что старик реабилитируется, любовь его изменила, из пустой бабы (которую написал Гольдони) Стуруа там придумал роковую женщину, саму Любовь, чье обаяние действует даже на этого старого скупца без единой положительной черты. Роберт не может не дать шанса злодею, не пожалеть всех, не устроить пир справедливости в финале. — Вы только что вернулись с гастролей — кажется, пятых за последние три месяца. — Восьмых. — Вы играете, ставите, преподаете. Я вас ловил полгода. Когда вы живете? — Что вкладывается в понятие «жизнь»? — Свободное время. Прогулки. Посиделки с друзьями. — Все перечисленное — безделье, а не жизнь; жизнь происходит в театре, где находится и семья. Друзей у меня нет. — Как? — Очень просто, мне это не нужно, я не могу себе этого сейчас позволить. У меня был близкий друг Леонид Трушкин, настоящая мужская дружба — совместная работа, обсуждения замыслов, ежедневное общение. Потом это без всякой ссоры превратилось в доброе приятельство. Когда ты не все можешь сказать человеку в глаза — это уже не дружба, а я не знаю, кому я сейчас могу все сказать, да и нужно ли мне это. Может быть, это возраст, может быть, все люди сейчас занимаются слишком разными вещами и слишком по-разному живут… Понятие среды и тесного дружеского круга — это тоже осталось там, в советских временах, когда все у всех было почти одинаково. Отдых мне тоже не нужен, потому что нет отдыха, кроме смены занятий,— играя, я отдыхаю от режиссуры, а когда ставлю, отдыхаю от игры. Экономикой мне, по счастью, заниматься почти не приходится — есть люди в театре, понимающие это лучше меня. — Что вы собираетесь сейчас ставить? — «Доходное место» Островского. — Можно подумать, что современной драматургии не существует. — Российской? Существует. Но мне как-то Шекспир больше нравится. Ростан, Мольер… Островского даже осовременивать не надо — все как сейчас написано, перечитываю и глазам не верю. А с осени 2003 года Володя Машков начинает у нас репетировать «Собачье сердце» — с Юрским в роли Преображенского. — И с вами в роли Шарикова? — (смеется) Да. — Почему так поздно? У вас что, до будущей осени все расписано? — У нас все расписано по дням на два года вперед. И Машков хотел это делать даже в более отдаленной перспективе — но увидев, как он в этом кабинете бегал по стенам, рассказывая мне всю будущую постановку, я понял, что надолго ее откладывать он не станет. Это у него слишком горит. — Вам не обидно, что он сейчас в Голливуде? — Да почему же обидно, Машков такой человек, что все равно не успокоится, пока не покорит мир. Ему нужен «Оскар» или «Пальмовая ветвь», причем за режиссуру. Невозможно сомневаться, что все это у него будет,— его мотора, таланта и честолюбия хватило бы на десять Америк. Америка понятия не имеет, что такое русский актер. Там думают, он годится только на роли злодеев; сейчас он им показал, на что способен. Мне обидно только за то, что актер такого класса играет в кино. Я видел его в «Матросской тишине» у Табакова, и по-моему, это была великая работа. Просто — великая. Кажется, он будет сейчас снимать фильм — как раз по «Матросской». — И вы, и Машков ведете жизнь чрезвычайно бурную и работаете без передышки, а выглядите совершенными огурцами. Что, искусство консервирует? — Оно не консервирует, но, конечно, способствует молодости. А впрочем, это касается любой деятельности, приносящей наслаждение и избавляющей от злобы. Посмотрите на Фоменко: я ни одного спектакля у него не пропускаю. Ему семьдесят лет, он болел много. Но какой гусар и какой огонь! Кто даст ему его годы? Или Гинкас. Мне очень интересно то, что они с Яновской делают. Порой все во мне сопротивляется Гинкасу, он вот так меня крутит — но в конце концов всегда побеждает. Вообще, когда играешь в театре, нельзя раздражаться. Стоит тебе озлиться — на зал, на партнера,— все. Обаяние твое мигом становится отрицательным, и тебя начинают ненавидеть с той же силой, с какой только что любили. Какой я был, боже, какой я был! Как я орал, срывался, иногда даже на сцене — вспомнить стыдно. — Есть у вас любимый актер? — Смоктуновский, Борисов, Евстигнеев, Калягин. — Вы упомянули, что семья в театре,— и жена действительно работает вместе с вами. Это вам не мешает? Потому что режиссура невозможна ведь без увлечений, и преподавание, вероятно, тоже… — Ну а что дурного в увлечениях? Чтобы актер увлек зал, он сам должен увлечься, естественная вещь. Да, было. В конце концов, у меня сейчас третий брак — пусть каждая из жен относит сказанное на счет другой. Очень редко такие увлечения перерастают во что-то более серьезное. Было время, когда моя нынешняя жена уходила из театра, делая сольную карьеру; теперь вернулась. Значит, ей тут нравится. Ну, и мне нравится, что она тут. Что касается студенток — среди театральных педагогов на этот счет нет единого мнения. Между прочим, моя первая жена — брак этот длился четыре года — была моей студенткой, еще в табаковской студии. Так вот, один маститый педагог веско сказал при мне однажды: «Со студентками — можно». Ему стали возражать: «Но…» — «Без всяких «но». Со студентками — можно». Это не значит, что я разделяю его взгляды: видимо, он считал, что это оптимальная форма обучения. Но не единственная и, главное, не универсальная. — Вы — за энергичный театр, вы сами говорите, что зрителю сегодня нужна энергия. Но вам не кажется, что причина этого — в полной аморфности общества, в отсутствии сюжета? Какая-то пауза во всем… — Я этого не наблюдаю. И не потому, что живу в башне из слоновой кости. Просто по театру все отлично видно. Это же срез страны. Чтобы увидеть и понять страну, вовсе не обязательно ездить на целину или в Сибирь. Это тоже советская лажа. Пастернак говорил: все, что надо, я увижу из окна дачи. Так что я живу здесь, в театре. И иногда мне кажется, что если мир рухнет — я узнаю об этом последним, а может, попросту не замечу. Так и буду играть. — Вот вы поставили сейчас Островского — «Не было ни гроша, да вдруг алтын», под названием «Деньги» и в современном антураже. Нет ли у вас чувства, что вся литература позапрошлого, да и прошлого века куда-то отъехала, молчит, не отвечает современному человеку? Что это тысячелетие вообще кончилось и началось что-то совсем новое? — Нет, конечно, и быть не может. Куда оно все денется? Что, новый человек народился, без прежних низостей и прежних порывов? Что касается Островского — это самый актуальный драматург вообще, не говоря о том, что я, произнося его текст, испытываю физическое наслаждение. Понимаете — сочинителей пьес было много, в том числе экстракласса. Гениальный Чехов, скажем, зашел в театр, пробыл там некоторое время и написал несколько шедевров. Но драматург — это человек, знающий театр, чувствующий его, живущий в нем, и таких в мировой истории очень мало; первый ряд — Шекспир (кто бы он там ни был на самом деле, прямую причастность к театру имитировать невозможно). Мольер, сам актер и режиссер. Гольдони. Брехт, который почти всегда умнее собственной морали. И Островский. В России — только он. Никто не умел делать речь — живее, роль — мяснее; никто больше в России не умеет сделать так, чтобы зритель от естественного и вместе с тем внезапного сценического поворота открыл рот и так застыл на некоторое время. — Ну, это же вещь довольно грубая, согласитесь… — Грубая, ага, только не умеет никто почему-то. А Островский умеет, потому что он же сказочник по природе своей. Не просто потому, что сочинил несколько классных сказок («Снегурочку» в «Сатириконе» мы даже ставили), а потому, что у него, в общем, сказочные, моральные представления о мире. Добро должно вознаграждаться. Хороший человек должен жить долго. А оно все наоборот! И театральным — и вечно живым — делает его вот это собственное непроходящее удивление перед реальностью: хорошему — плохо! Бесчестному — отлично! И Островский разводит перед этим руками: ну почему?! А потому, что общечеловеческая правда — и это как раз делает Островского актуальным до буквальности — погребена под правдами корпоративными, отдельными. Кто сказал, что брать взятки нехорошо? Нет, ты бери, но — задело! Не позорь сословие! Или Кукушкина там говорит: как не брать? Если они не будут брать, за кого дочерей отдавать? Правда? Да. Логично? Безусловно. И эти логики победили одну, общую, и про это Островский. Поэтому когда у него в «Не всё коту масленица» вдруг бедные, но хорошие люди отказываются от прямой выгоды, потому что не хотят кабалы,— это вызывает у зрителя восторг, потому что автор сам не ожидал: смотри ты! Это, кстати, очень американская драматургия, голливудская даже. В Штатах, когда мы показывали «Масленицу» — она у нас идет сейчас в постановке Аллы Покровской и Сергея Шенталинского,— ажиотаж в зале был, как на рок-концерте, при том, что половина текста от них ускользала, конечно. Переводил молодой человек по фамилии Байрон, который у нас сейчас играет, стажируется. И тем не менее. Боже, как я там наслаждаюсь — у меня Ахов, любимая роль! — Но какой же вы Ахов?! — Это вы не видели. Увидите — другого, может, и не захотите. — Но он старый! — А мне сколько будет? — Но он толстый! — И я толстый. — Ладно, хоть при мне постыдитесь. — Островский, понимаете, берет не той актуальностью, которой аплодируют в зале после монологов Вышневского или реплик вроде «Хорошо, у кого много награблено». Островский берет удивлением перед тем, что в мире всё не так — а выходит все равно правильно. — Почему вы в последнее время наиграли столько отрицательных ролей? В «Косметике врага» с Козаком, царствие ему небесное, вы вообще что-то вроде дьявола. До этого — Ричард. До этого — Тодеро. До этого — Мэкки-Нож. — Ну, Тодеро все-таки не совсем… но вообще — говорил и повторю: полезно играть отрицательные роли. Выбросил из себя все это, выпустил мистера Хайда — пошел жить дальше, по-человечески. Я это понял на «Записках из подполья». Был такой спектакль — «И пойду, и пойду». Ровно 33 года назад. — Даже я помню, сколько было шуму. Но в девять лет мудрено мне было туда попасть. — Вам и не надо было в девять. Но сейчас — сходите. — А он что, уцелел? — Мы его возобновляем. В будущем сезоне. Я вообще чрезвычайно люблю риск, причем сопряженный с ужасом, когда ужас достигает таких высот, что переходит уже в азарт. Тот спектакль игрался в «Современнике» на пятом этаже — понятия «малая сцена» не было,— в крошечном помещении, сидя в углу. Теперь я это хочу делать на большой сцене. Как — понятия не имею. — Да удержите вы эту сцену, не первый моноспектакль… — И всегда с ужасом. Я понимаю, что удержу его, показывая, допустим, зверей. Но Достоевским? Идея появилась странным образом — издали курс лекций Одена о Шекспире. Читаю про Яго. Совершенно справедливое замечание о том, что Яго ни разу не врет. — Как? — А вот так, перечитайте пьесу. Я же говорю, человек понимал в театре. Яго на протяжении пьесы не произносит ни слова прямой лжи. Он подталкивает Отелло к худшим подозрениям. Смотрит на вещи под неприличным, не принятым углом. Но не врет, его не припрешь! И для доказательства этой мысли Оден цитирует Достоевского — и тут я понимаю, что знаю этот монолог наизусть. Это из «Подполья». А я человек спонтанных решений — снимаю трубку и говорю Фокину: Валера, а давай сыграем «Записки из подполья». Тогда мы это делали с Леной Кореневой, а теперь он предложил мне одному за всех. Это наша с ним восемнадцатая работа. Восемнадцатая, страшно сказать! — Но как вы — с вполне положительным обаянием — взялись за этого мрачнейшего типа? — Вы ничего обо мне не знаете. А Достоевский знал обо мне все, это обнаружилось почти мистически. Было так: я сломал ногу на репетиции в «Современнике». Лежал, рядом костыли, читал. «Записки из подполья» была самая запретная в советском литературоведении вещь, страшней «Бесов», потому что ее изругал Горький и превратил подпольного человека в символ всего отвратительного. Издавалась считаные разы и с убийственными комментариями. Я стал читать эту вещь и на второй странице обнаружил, что автор знает обо мне то, чего я никогда и никому не говорил. Тут пошла игра, довольно дьявольская. Я подумал: ага, но если он знает еще и это… Переворачиваю страницу. Он знает и это. Ладно, думаю я, но ЭТОГО он не может знать, я сам ЭТОГО знать не хочу… Знает! Дойдя до второй части — «По поводу мокрого снега», начинающейся словами «В то время мне было всего двадцать четыре года»,— я швырнул эту книгу в стену. Потому что в то время мне было двадцать четыре года. Отчетливо помню, как костылем потом подгребал ее обратно. Инсценировку нам сделал Юрий Карякин, точней, он активно нас консультировал. После этого спектакля на меня перестала давить фамилия — не совсем, конечно, но я понял, что в принципе нечто могу. Тогда же у меня появилась мысль уйти из «Современника»: Достоевский вообще вас проявляет, вытаскивает неоформленные намерения — чаще всего очень болезненная процедура. Да и что мне было там играть после него-то? — Почему ваш театр, находящийся, в общем, не в центре, стабильно заполняется? — Что вы, вот метро к нам провели… Серьезно говоря — он потому, наверное, заполняется, что зритель рассчитывает здесь найти честную домашнюю кухню на традиционном сливочном масле. Изысков, то есть кузнечиков, жаренных в желчи бешеной обезьяны, ему здесь не предложат. Все очень традиционно, но честно. — Традиционно? А Юрий Бутусов с Ионеско, и не только… — А что Бутусов? Бутусов классический, традиционный режиссер, очень начитанный, воспитанный Петербургом и сентиментальный в лучшем смысле — человек с глубоким внутренним содержанием. Дима, пропадай моя репутация, скажу ужасную вещь: я не люблю авангардное искусство. Я не люблю так называемое концептуальное искусство. Я не люблю абстракционизма. Я терпеть не могу в стихах рифму «палка-селедка» и выдачу этого за настоящую поэзию. Я не люблю и не понимаю главный молодежный глянцевый журнал об искусстве, который вам назову, а вы не называйте; я не понимаю, как там пишут о театре и почему там восхищаются только полными, безоговорочными провалами, когда весь зал, буквально весь, встал и ушел!— а у них это эталон. Мне все это враждебно на каком-то самом базовом уровне, потому что все это вещи антихристианские. Все это эстетство занимается только тем, что страстно, самозабвенно, слюняво целует дьявола в зад. Они все убеждены, что жизнь — дерьмо, но почему-то при этом не стреляются, а, напротив, этим кокетничают. Из этого каким-то странным образом выводится мое представление о главном грехе: я его сейчас попробую сформулировать. Главный грех, главный соблазн вообще — это делать что-либо только ради того, чтобы повышать самооценку. Работать только на свое мнение о себе. И в этом смысле мне повезло, потому что я — актер и завишу от мнения чужого. — Действительно зависите? — Очень завишу, вы не поверите как. А настоящее зло совершается ради самооценки; вот все, что делается ради нее, и есть дьявол. Он там прячется, в этой щели. — Чем вы удерживаете коллектив — не деньгами же? — О, если б я мог удержать его — плюс ко всему — и деньгами! Я бы страстно этого хотел, но таких денег нет. И сомневаюсь, кстати, что это можно — одной зарплатой… Театр — это ведь такое дело: его все время надо взбивать со всех сторон, как подушку. Отвернулся — разладилось все. Но это в моей природе, я никогда бы не мог быть только актером, я страстно смотрю в какую-то точку — и смотрю в самом деле так убежденно, что и труппа начинает верить, будто там что-то есть. А кстати, оно и правда есть. — С каким чувством вы вспоминаете Советский Союз и все советское? — Да ну. Никакой ностальгии. Зоопарк. В СССР было столько идиотизма, что все хорошее этим совершенно обесценивалось и в конце концов поглотилось. Но в СССР, по крайней мере, у людей был смысл: либо в этом участвовать, либо этому противостоять. Сейчас этот смысл надо придумывать себе самостоятельно, да. Мне хорошо, у меня он есть. Найдите себе дело и живите им — и будете человеком без всякого СССР. — Как вы себя держите в такой форме? — А что особенного? Преподаю я. Это знаете как держит? — Знаю. — Потом, я играю пятнадцать спектаклей в месяц. Отец до последнего года жизни играл двадцать. А у него, между прочим, был порок сердца. У меня нет. Я не болею — кроме как по мелочи,— просто потому, что не могу себе этого позволить. Да что я! На Табакова посмотрите. В этом году 75. МХТ тащит, еще детей при этом заводит. — Он с годами улучшается, по-моему. — Во всяком случае, раньше мне иногда казалось, что на сцену вместо Табакова вышел штамп, а сам Олег Павлович пошел за сцену решать хозяйственные дела. Или книжку читать, допустим. Сейчас не кажется, да. — Но вы, может, здоровый образ жизни ведете? — Раньше много курил, потом в какой-то момент почувствовал, что мне это мешает, и с облегчением бросил. — А пить? — Расслабиться с рюмкой после спектакля — да, но в театре — никогда. Этому стоит начаться, как все полетит к чертям. Если от человека в театре пахнет, ему сразу говорят, что в его услугах театр больше не нуждается. — Вы сами говорите? — Почему сам? Самому это очень трудно сказать. Директора посылаю. 2010 год |
| Тема | Написано | Дата |
|---|---|---|
 Костя Райкин - матерый человечище! Костя Райкин - матерый человечище! |
rvv | 12.10.2011 09:54 |
  Отв: Костя Райкин - матерый человечище! Отв: Костя Райкин - матерый человечище!
|
ГрачЪ | 12.10.2011 15:43 |
В онлайне
Гости: 64