edgeways.ru
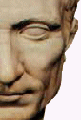 |
|
Навигация:
Консилиумъ•Политзанятия•Кулуары•Салон•Полигон•Раскопки•5У•Тех.вопросы•
Новая тема•Искать•
Войти
•Лента
|
Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян) Пользователь: sult (IP-адрес скрыт) 
Дата: 28, June, 2012 14:38 Финам.FM
Археология 19/06/2012 21:05 Есть ли будущее у капитализма? МЕДВЕДЕВ: Добрый вечер. Это программа «Археология», в студии Сергей Медведев. У нас сегодня необычный гость – гость, который весьма редко бывает в Москве, и я каждый раз очень рад, когда он может прийти в нашу студию. Человек мира, своего рода, человек-оркестр, человек у которого течет в жилах армянская и казачья кровь, который в своей биографии объединил Краснодар и Ереван, Чикаго и Нью-Йорк, эмират Абу-Даби, ну и иногда – Москва. Это Георгий Матвеевич Дерлугьян, профессор Нью-Йоркского университета. Добрый вечер, Георгий. ДЕРЛУГЬЯН: Добрый вечер. МЕДВЕДЕВ: И, собственно, хочу я поговорить по вот такой глобальной теме. Потому что Георгий занимается такой вещью, как макроисторическая социология или макроистория, он тот человек, который смотрит системно на всю человеческую историю, находит в ней мегатренды, какие-то большие столетние циклы, и смотрит, как они реализуются, собственно, в практике повседневности, в политической и в общественной практике государств. Так что мы говорить будем по такой очень большой, глобальной теме. Тема эта навеяна книгой, которая сейчас выходит с участием Георгия Дерлугьяна, с таким достаточно провокативным названием: «Есть ли будущее у капитализма?» Собственно, и эпиграфом, что меня особенно затронуло, к ней взяты слова из песни Петра Мамонова: «Что мы будем делать в четверг, если умрем в среду?» Так что вот с такими апокалиптическими настроениями я хотел бы поговорить с Георгием Матвеевичем. Кризис, который сейчас, он, может быть, даже не временный, а кризис системный? Это признак некоего вообще старения и истощения системы, которая началась где-то на северных берегах Атлантики порядка 400-500 лет назад. ДЕРЛУГЬЯН: Вполне возможно. Но большие системы отмирают, как правило, долго. Хотя конечный кризис может произойти очень внезапно, как это было с Советским Союзом. Моя глава в этой работе как раз и посвящена распаду Советского Союза, и тому, что происходит с Китаем в 1989 году, одновременно с распадом СССР, чтобы показать, насколько неожиданным может быть финальный кризис. Кризис ведь приходит, как правило, в больших системах двумя волнами: первая волна – это сигнальный кризис, и вторая волна – это то, что называется конечным кризисом, терминальным кризисом. Есть довольно убедительные выкладки о том, что кризис 70-х годов, который у нас сейчас почти уже никто не помнит, кризис стагфляции в Соединенных Штатах и в Европе, кризис... МЕДВЕДЕВ: Нефтяной. ДЕРЛУГЬЯН: Нефтяной, OPEC, там очень много всего наложилось, поражение во Вьетнаме – это уже почти забыто. Период, когда происходили постоянные расовые бунты в американских городах, когда... МЕДВЕДЕВ: Но он же привел к огромной перестройке мирового капитализма. ДЕРЛУГЬЯН: Да, он привел к перестройке. Но в чем была перестройка? И этот вопрос надо задавать. У нас ведь очень часто это воспринимается как стадиальная какая-то перестройка, что произошла какая-то постиндустриализация. Действительно, произошла деиндустриализация. Надо говорить не идеологично о том, что мы вышли на какой-то новый уровень, а говорить о том, что произошло. Да, действительно, промышленность была выведена из большинства стран Запада, она была выведена в какие-то страны третьего мира, что привело к очень быстрой индустриализации в таких странах, как, прежде всего, Китай, также в Бразилии, в Мексике... МЕДВЕДЕВ: Ну, в BRIC... ДЕРЛУГЬЯН: В BRIC, да. Это могла бы быть, кстати, и Россия, вернее Советский Союз, если бы он сохранился. Скажем, был довольно впечатляющий кандидат на вывод производства. Помните, был разговор такой в 80-е годы про совместные предприятия, СП, какие-нибудь туфли «Саламандра» немецкие начинали делать. МЕДВЕДЕВ: Мы могли превратиться в своего рода дельту Янцзы, как, собственно, в Китай выводили, и какие-то крупные энергоемкие производства к нам могли вывести? ДЕРЛУГЬЯН: Наверное, в Китай уже не могли превратиться, потому что мы там уже были, и уже не могли вернуться к этому. Последний раз мы были на уровне Китая в 1953 году, когда Лаврентий Берия пытался встроиться в капиталистическую систему, на этом уровне. Советский Союз, хорошо это или плохо, был слишком развитым и слишком образованным. В этом большая была проблема. Кстати, маленькая иллюстрация. У нас в Чикаго в дни, когда на Украине происходила революция «оранжевая», когда стало ясно, что эта революция победила, гостил один довольно видный политик из Евросоюза. Я его спросил просто за ланчем: «Ну что, сколько теперь времени потребуется на интеграцию Украины в Евросоюз?» Он говорит: «Нисколько. Эта страна со слишком образованным, стареющим населением, огромным, энергоемким промышленным производством образца 30-50-х годов. Очень много денег потребуется на то, чтобы разобрать эти заводы. Нам не нужна Украина, нам нужна Турция. Но убедить наше население по культурным причинам, что им нужны именно молодые турецкие рабочие, которые следующие 20 лет будут оплачивать их пенсии, совершенно невозможно. Вот такая у нас проблема. Мы слишком демократичны, мы не можем принимать решения за свое население, хотя мы и стараемся». МЕДВЕДЕВ: Собственно говоря, это то, что сейчас вы говорите, та причина, по которой не получилось Тяньаньмэнь российской, да? Потому что у нас было слишком большое образованное население, и мы не могли пойти китайским путем, у нас слишком был сильный динамичный средний класс, который поднял Горбачев, и который затем уже пошел дальше, принес нам Ельцина, перестройку и так далее. ДЕРЛУГЬЯН: Я бы более негативно это оценивал. У нас была очень сложная центральная бюрократия, которой не было в Китае по двум причинам. Всем ведь кажется, что Китай такой огромный. Ну, знаете, эти анекдоты: «Китайская армия малыми отрядами по 3 миллиона человек». Так вот, один реальный факт, не анекдотический: все центральное правительство Китая, правительственный аппарат Китая численно меньше, чем американский Департамент сельского хозяйства. У них довольно маленькое правительство, у них довольно маленькая бюрократия, и Китай управляется совсем по-другому. Китай не пережил индустриализации советского масштаба, там нет Министерства среднего машиностроения, Министерства тяжелого машиностроения, вот этих гигантских министерств не было. Второе – не было республиканской бюрократии, которая была в Советском Союзе. МЕДВЕДЕВ: Целого этажа иерархии просто не существовало. ДЕРЛУГЬЯН: Да. Поэтому оказалось гораздо легче управлять этой номенклатурой. На техническом языке науки это называется «проблема коллективного действия», чтобы люди не сиюминутные свои личные цели преследовали, а занялись бы чем-то, что работало бы на некий коллективный и долгосрочный интерес. МЕДВЕДЕВ: Это мы отвлеклись немножко. В принципе, мы говорили сейчас о коллапсе, возможности... То, почему сейчас распался, так для многих неожиданно, Советский Союз. А сейчас все-таки вернемся к тому, с чего начали – возможен ли глобальный коллапс капитализма? Подобный тому, скажем, как произошел с европейской системой в Первую мировую войну. Кто мог предположить в 1911-1912 году во время технического прогресса, дерзаний, мечтаний, что в 1914 году все так рухнет. ДЕРЛУГЬЯН: Да еще и весной 1914-го никто не мог предположить. Да еще и Ленин в январе 1917 года признавал, что его поколение уже не увидит следующей революции, ну, может быть, будущие. Это общая проблема прогнозов. Прогнозы, как правило, основываются на экстраполяции того, что было – что было, то и будет. Второе – общая проблема с прогнозами, не только историческими, но и прогнозами погоды – предсказать событие можно, вот вы видите тучку на горизонте, говорите: «Будет дождь», но предсказать скорость наступления события (будет через два часа дождь или через пять часов дождь) и интенсивность (покапает немножко или прольется ливнем, будет ли это с градом) – вот это самое трудное. МЕДВЕДЕВ: Хорошо, возвращаясь к тому, о чем говорили. 1972 год, ну, с начала 70-х, 1973-й, нефтяной кризис, Ближний Восток, – это был сигнальный кризис мирового капитализма? ДЕРЛУГЬЯН: Это мнение нескольких крупных западных макросоциологов. Это мнение Джованни Арриги, это мнение Иммануила Валлерстайна. Скажем, я хотел собрать этих великих стариков (они старики: Арриги ушел из жизни три года назад, Валлерстайну – 82), плюс, я хотел найти мнение, противоречащее Валлерстайну. Майкл Манн, британский социолог, которому 79, тоже автор фундаментальных совершенно работ. Есть у него работа с простым названием «Фашисты», он обобщил, что нам известно вообще о фашистах: кто это были, кто рекрутировался в фашисты, чего они добивались, каковы были действия фашистов в разных странах. Ну и он же автор огромной работы «Истоки социальной власти», на русский не переведенной, очень трудно найти переводчика, слишком уж велика работа. Ну, это такой Макс Вебер сегодня признанный. И Рэндалл Коллинз, который чуть более известен в России, тоже великий социолог. В общем, хотелось, чтобы они между собой поспорили. У них разные оценки того, что происходило в 70-е годы. Майкл Манн не считает, что это было сигнальным кризисом, он считает, что если это и было кризисом, то это было кризисом определенной западной системы гегемонии. Но он считает, что американская гегемония продолжается на сегодняшний день, и если что-то и грозит капитализму, то, скорее, это, он считает, две вещи. Во-первых, может разразиться еще ядерная война. Второе – может быть экологический кризис такого размаха, что ни одна сложная социальная система с ним не справится. Ну, скажем, когда Бангладеш со 100 миллионами человек уйдет под воду, когда эти люди хлынут куда-то в соседние страны, скажем, Индия выставит танки на границе с Бангладеш, что будет. Или когда Индия и Пакистан начнут военные действия с применением ядерного оружия. Что угодно. МЕДВЕДЕВ: Или еще хуже, если говорить об... Ну, не хуже, а если говорить о катастрофическом сценарии. Если тот же Бангладеш и все прочие страны развивающиеся, находящиеся на низком жизненном уровне, захотят иметь жизненный уровень США. Тут вот я недавно читал, в Москве выступал в Политехническом музее Ульрих фон Вайцзеккер, глава программы развития ООН, и он говорил, что если нынешнее население земного шара захочет иметь уровень потребления Соединенных Штатов, то нужно пять планет Земля. ДЕРЛУГЬЯН: И это очень распространенное мнение. Я все-таки ученый, я хочу все это протестировать. Откуда вы взяли это? Вот всегда вопрос должен быть: а чем докажешь? Доказательство очень сложная вещь. Можно сказать, что все это очень умозрительно. Доказательство одно – это эмпирическое доказательство. Это слабое доказательство, как правило, потому что эмпирически – это означает факты. Но фактов-то столько, их море, из статистики можно выудить одно или другое. МЕДВЕДЕВ: В любом случае, у нас есть некие апокалиптические, катастрофические сценарии, что у Майкла Манна, что у Иммануила Валлерстайна. Но насколько, хотя бы, глядя на то, что сейчас происходит с евро, насколько мы видим начало некоего системного кризиса? ДЕРЛУГЬЯН: А вот то, что мы видим с евро, это наводит на самый главный вопрос: это происходит с капитализмом или это происходит с Западом? МЕДВЕДЕВ: Или с Евросоюзом? ДЕРЛУГЬЯН: Или с Евросоюзом, да. Есть ведь еще Китай, есть BRICS. Вот здесь очень большой вопрос возникает, и вопрос на самом деле, который еще, скажем, 25-30 лет назад не стоял. Вот я хотел бы эту историческую долготу привлечь сюда. Почему я привлекал этих великих стариков? В 50-е, 60-е, 70-е годы последний раз у нас были такие великие люди, которые занимались на очень большом и глобальном уровне чем-то. Кстати, то же самое относится, наверное, и к кинематографу, к очень многим областям человеческого творчества. Как-то в 80-90-е годы все стало меньше, и мельтешения стало больше, постоянно меняются моды. Ну, теперь даже неловко вспоминать. Было же какое-то общество «Знание», сетевые сообщества, придумывали каждые два-три года, это помогало продавать очередной бестселлер. Столкновения цивилизаций какие-нибудь случались у людей. МЕДВЕДЕВ: Ну, постмодерн, конец метанарративов, конец эпохи идеологии и наступление некой такой мелкой проектной эпохи. ДЕРЛУГЬЯН: Ну и откуда это взялось? Откуда это взялось, и как долго это будет продолжаться, как это устроено? Вот на эти вопросы... Даже никто не ставит так проблему. МЕДВЕДЕВ: Ну, к кризису возвращаясь. Насколько... Вот мы сейчас говорили о Советском Союзе. Не повторяет ли нынешний глобальный капитализм вот эти, собственно, грабли, те вещи, на которые мы наступали? Сначала некая стагнация, затем политический кризис, затем хаотичные реформы, которые мы сейчас видим в Евросоюзе, и, наконец, уже окончательный коллапс. ДЕРЛУГЬЯН: Не готов ответить, честно скажу. Потому что то же самое в январе меня спрашивали в Вене, очень оказалась занятная конференция, даже не могу сказать, с кем я там разговаривал, потому что люди не представлялись. Из Фонда Сороса позвонили, сказали: «Пожалуйста, прилети в Вену. Оплачиваем бизнес-класс. Срочно. Там увидишь, там будет интересно». И там сидели люди, которые говорили: «Ну, я работал у Хавьера Солана, я советник...» Они представлялись так: «Ну, я советник премьер-министра Великобритании». МЕДВЕДЕВ: Напоминает какую-то полукриминальную разводку: «Я с Сухарем работал». Такие вот клановые вещи. ДЕРЛУГЬЯН: Наш выдающийся российский социолог Вадим Волков, который специалист по мафии и по «понятиям», как-то очень хорошо сказал, что ведь когда журналисты покидают залы заседаний международных переговоров высокого уровня, разговор идет, скорее всего, именно по понятиям, только это называем международными нормами. Здесь было примерно то же самое. С другой стороны были люди, которых я немножко лучше знаю – несколько коллег из Принстона, в основном американские, несколько западноевропейских специалистов по Восточной Европе. И нам был задан очень простой вопрос: «Джентльмены, нам вас рекомендовали как лучших специалистов по распаду советского блока. Скажите, что с нами сейчас происходит? Вот мы – Евросоюз. У нас кризис». Когда происходит кризис, система становится командной очень быстро, и цепь принятия решений сокращается до шести-семи человек. Там был человек, который так и представился – он заместитель министра иностранных дел одной из бывших социалистических стран Восточной Европы. Он искренне сказал: «Вы знаете, нас не только перестали приглашать на заседания Евросоюза, нам даже повестку дня не присылают, потому что решения уже приняты. Потому что решения принимаются в кризисном порядке». Так вот, это действительно очень интересный вопрос: чем Евросоюз похож на Советский Союз? И я бы сказал, только тем, что это сложная бюрократическая система, и, как любая бюрократическая система, она способна сама себя угробить. Вот вы упоминали уже 1914 год, вот что произошло в 1914 году. Критикам капитализма, которые что-то хотят сказать плохое про эту систему, почему-то не приходит в голову, как правило, указать на 1914 год, когда эта система совершила коллективное самоубийство – она создала невиданные совершенно в истории средства организации и уничтожения, и она эти средства пустила в ход. Правительства западноевропейских стран, не понимая, они не могли понимать, чем они на самом деле располагают, потому что они воевали последний раз всерьез в наполеоновские времена, они применили эти средства друг против друга. Примерно что-то такое же происходит и сейчас, когда финансовые рынки достигли такой степени абстрактности, что они непонятны самим людям, оперирующими этими рынками. МЕДВЕДЕВ: Уже работает логика машин, логика больших чисел, которая не подчиняется... ДЕРЛУГЬЯН: Вероятно, да. МЕДВЕДЕВ: Вот на такой алармистской ноте давайте уйдем на небольшой перерыв. Реклама. *** МЕДВЕДЕВ: И снова добрый вечер, это программа «Археология». Сегодня мы говорим о кризисе: «Есть ли будущее у капитализма?» И есть ли альтернатива глобальному капитализму? У нас в гостях Георгий Дерлугьян, профессор Нью-Йоркского университета, человек, ездящий по всему миру, преподающий сейчас в Абу-Даби, иногда заезжающий в Москву, и, собственно, просвещающий нас о том, как кризисы случались в мировой истории, и какие они, собственно, предлагают нам альтернативы. Так что вот, мы остановились на том, что Евросоюз в какой-то степени может быть похож на Советский Союз эпохи заката империи. Но вот если сейчас говорить шире, чем Евросоюз, если говорить о глобальном капитализме. Вот мы такую интересную тему... Ведь это, может быть, то, что Шпенглер говорил, закат Запада? Но одновременно же, может быть, восход новых индустриальных держав, того же Китая? Так вот, Китай это что – капиталистическая страна сегодня, чисто капитализм, новый капитализм, который нам уже в китайском обличии является? ДЕРЛУГЬЯН: Давайте вернусь. Вы столько таких красивых слов наговорили про то, как я летаю по миру. Я все-таки родом из Краснодара, я домой стараюсь ездить, а в Москве у меня пересадки. Но тут еще много друзей, с которыми очень интересно поговорить. У нас же страшно интересный район мира. И распад Советского Союза толком до сих пор не проанализирован. Он должен был распасться, потому что он был нехороший, скажем, или Горбачев был плохой человек, недостаточно умный, что угодно. Но если Советский Союз был такой нехороший, почему он не распался в 1941 году или в 1931 году? Ну, в 1921 году, если на то пошло? Почему они продержались 70 с лишним лет и распались в тот момент, когда на самом-то деле, казалось бы, экономика не самые худшие времена даже переживала? Следующий вопрос: что такое капитализм? У нас ведь до сих пор продолжаются перестроечные дебаты. Меня часто спрашивают в Москве: «Ты не был несколько лет. Посмотри, как все изменилось». Меня как раз поражает, как мало изменилось. В общем-то, это все еще очень узнаваемый Советский Союз с его коллизией, номенклатурой и средним классом, который очень трудно определить, я бы сказал, что это просто образованные специалисты, который возник в конце 50-60-х годов, и он продолжает бороться за автономию бюрократических решений. Экономическую и культурную автономию какую-то. И, поскольку когда-то, еще 20 лет назад, идеологией бюрократии был марксизм-ленинизм, то в качестве тарана используется некая крайняя форма либеральной идеологии Запада, против этого. Среднего не дано. Это беда. Это очень интересный район мира, и на самом деле его никто не изучает, включая наших собственных ученых, хотя нам, казалось бы, все карты в руки. МЕДВЕДЕВ: Район, вот уточните. Вы же занимаетесь миросистемным анализом, в терминах Иммануила Валлерстайна. Ну, нашим слушателям напомним, что вот эта теория миросистемы – грубо говоря, есть ядро, где зародился капитализм в Европе, есть полупериферия и периферия. Россия в этом смысле, наш район мира, это полупериферия, мы по-прежнему периферия глобального капитализма? ДЕРЛУГЬЯН: Ну, кроме Валлерстайна есть ведь и другие теории. И мне очень интересно, как эти теории не противостоят друг другу, а что можно сочетать, как их можно взаимоусиливать. У меня такое чувство, что поколение этих великих стариков 50-60-х годов... Была очень высокая конкуренция, ну, как всегда бывает с творческими людьми, которые вырвались на какой-то новый уровень, и многие из них понапридумывали своих собственных слов и выражений. Я решительно выступаю, борюсь за то, чтобы говорить ясным языком и как можно проще, чтобы попытаться все это привести к общему знаменателю. Есть еще Майкл Манн. У Майкла Манна вместо трех зон, то есть центра или ядра миросистемы, то есть это Голландия, Великобритания, там, где родился спонтанно капитализм в XVII веке, кроме полупериферии это страны типа Скандинавии, Италии и России, они очень разные, и периферия – это колониальные страны. У Майкла Манна действует пять или шесть регионов мира, и мне кажется, что это довольно продуктивно, потому что один из этих регионов это то, что он называет «Континентальная Европа». Вот там хорошо очень Россия вписывается. Континентальная Европа – это Европа минус Британия, которая похожа на свои бывшие колонии – на Северную Америку, Австралию; это минус Скандинавия, которая очень специфический, отдельный район, очень интересный, на самом деле. Чем больше я начинаю узнавать, скажем, про Данию и Норвегию... Почему, например, никогда не возникало Скандинавской империи единой, почему там не образовалось единого государства, хотя языки настолько похожи? Вот вся остальная Европа, континентальная Европа – это Европа крупных авторитарных, абсолютистских когда-то, монархий, государственных церквей. Это район мира, который прошел через фашизм, а мы прошли через коммунизм. И это район, который после 1945 года вдруг стал удивительно мирным. Бюрократизированный район, район с очень на сегодняшний день образованным населением, стареющим населением. И действительно, когда начинаешь смотреть по большинству показателей, у России показатели практически европейские. Россия – очень европейская страна, в том числе по разным очень плохим показателям, таким как старение населения или ксенофобия, что иногда возникает как сюрприз. Вы, например, знаете, что Россия второе место в мире занимает по количеству эмигрантов трудовых? В России количество среднеазиатских трудовых мигрантов приближается к количеству мексиканцев в Соединенных Штатах. Евросоюз даже несколько меньше. Так что Россия, безусловно, европейская страна по всем этим показателям, но европейская страна очень специфическая, потому что у нее сохранился военный потенциал, очень долго сохранялся, которого ни у кого в Европе не было. Вот этот военный потенциал определил и всю славу, и все бедствия отечества. Но не об этом речь. Давайте я вернусь к тому, как определить капитализм. Самое простое определение капитализма – это система, в которой люди используют деньги для того, чтобы делать больше денег. Они инвестируют, если хотите... Как это достигается? Давайте я скажу сначала, какие другие бывают способы организации власти. Ну, самый традиционный древний способ – военная власть. Завоевать новую территорию, ограбить ее, заставить ее платить налоги или подати. Это типичная имперская стратегия, которая существует уже минимум 5 тысяч лет. Есть идеологическая стратегия, но она более сложная. Скажем так, археологически. Вы находите богатое погребение, вот лежит скелет человека, усыпанный золотом и бриллиантами, радость для музейщиков. Кто это? Вот откуда он все это нарыл при жизни? А всего четыре варианта есть. Это был воин-завоеватель, строитель империи, который отобрал все это. Это был жрец, который посредничал между потусторонним миром и людьми. Это был организатор политических сообществ. Скажем, люди склонны вступать в социальные конфликты. Требуется судебная какая-то власть, требуется человек, который сможет организовать коллективное действие: «Давайте все соберемся и построим канал». И это мог быть человек, который организует товарные цепочки. Если этот продукт достать здесь, его перевезти туда, обработать вот так, его можно будет продать вот за это. Экономическая власть. Когда я играю в эту игру со своими студентами, я их спрашиваю: «Какую бы из форм власти вы выбрали?» Вот вы, Сергей, какую бы выбрали, если бы вы хотели стать выдающимся и богатым? МЕДВЕДЕВ: Нет, здесь вопрос еще, это не сферический конь в вакууме. ДЕРЛУГЬЯН: Да. МЕДВЕДЕВ: Я догадываюсь, что, наверное, организация товарных цепочек наиболее долгосрочна и, так сказать, sustainable, то, что называется устойчивый тип. Но, как бы, просто мой психотип другой, я не готов заниматься бизнесом, но догадываюсь, наверное, что именно такой, торговый? Нет? ДЕРЛУГЬЯН: Нет. Все четыре типа власти – экономическая, военная, идеологическая и политическая – подвержены кризису. МЕДВЕДЕВ: Эрозии, да, и кризису. ДЕРЛУГЬЯН: Эрозии и кризисам. На всякий лом есть контрлом. МЕДВЕДЕВ: Как неустойчивы империи военные, как неустойчивы великие идеологии, точно так же неустойчива система рынка? ДЕРЛУГЬЯН: В том-то все и дело. Вот этот вопрос мы и пытаемся ставить. А правильный ответ на этот вопрос должен бы быть примерно как в детской игре с покемонами: collect them all, «собери все». Вот поэтому сильная власть – это та власть, которая одновременно военная, идеологическая, политическая и экономическая. МЕДВЕДЕВ: Но не есть ли это нынешний портрет Соединенных Штатов? ДЕРЛУГЬЯН: Безусловно. Но проблема в том, оказывается, что военная мощь Соединенных Штатов в значительной степени, Майкл Манн как раз об этом написал замечательную книгу... МЕДВЕДЕВ: Неадекватна вызовам времени? ДЕРЛУГЬЯН: Ну, если хотите. Она слишком дорогая, она очень дорогая и слишком неэффективная. Она неэффективна, потому что политические изменения в мире произошли огромные. Конечно, войну в Афганистане можно выиграть ценой геноцида афганцев, но это неприемлемо. Старые имперские стратегии, когда повстанцев распинали на крестах, стали, слава богу, неприемлемы. Что делать дальше? У вас есть огромная армия, которую нельзя применить. Капиталисты нуждаются в защите, потому что капиталиста всегда можно ограбить. Собственно, главная проблема была в том, что капиталисты исторически существуют очень давно. Скажем, в Месопотамии уже были купцы, безусловно. МЕДВЕДЕВ: Законы Хаммурапи – они, собственно, первые прописывают... ДЕРЛУГЬЯН: Да. Но что происходило? Купцов было очень много, была мода одно время среди историков находить истоки капитализма везде. Если вы начнете искать в средневековой Индии, вы найдете, слушайте, огромное текстильное производство. МЕДВЕДЕВ: Там целая каста торговцев. ДЕРЛУГЬЯН: Да, почему это... Китай. Китайцы изобрели вообще все. Бумажные деньги там существовали 1000 лет назад, поэтому уже была инфляция. Но почему тогда все-таки в Китае не возник капитализм? Ответ, видимо, в том, что капитализм поедался каждый раз более крупными хищниками, потому что просто у капиталистов были деньги, их можно было экспроприировать военным путем. Капитализм состоялся в Западной Европе, потому что благодаря идеологии Реформации и благодаря тому, что голландские купцы смогли отбиться от испанских католических Габсбургов, возникла патовая ситуация где-то 400 лет назад. И вот в этой патовой ситуации возникли купцы, которые одновременно (на научном нашем языке мы скажем) вобрали в себя, интернализировали издержки на оборону. Это купцы с пушками и с кораблями. Это голландцы, у которых учился, кстати, Петр I. Но обратите внимание, голландцы не производят еще ничего. Голландцы торгуют, они привозят что-то с Балтики, они привозят из Бразилии, из Японии, но они привозят. Следующий этап – это британская гегемония, XIX век. Вот они провели индустриальную революцию, это капиталисты, которые с пушками, они сами свои пушки производят и они производят свой товар. Эта британская гегемония напоролась на то, что мы получили в 1914 году. Они не смогли справиться с военным вызовом новых держав, прежде всего Германии. МЕДВЕДЕВ: Германии, да. ДЕРЛУГЬЯН: И они не смогли справиться с мировым экономическим кризисом. Они довели капитализм до такой сложности, этих товарных цепочек, которые организуют капиталисты, стало столько, они запутались в них. Я очень упрощаю, но это был кризис 1930-х годов. МЕДВЕДЕВ: Ну да. ДЕРЛУГЬЯН: Как вышли из этого кризиса? Американская гегемония. Американцы сумели создать очень надежную систему обороны рынков и одновременно регулирования рынков. Когда я говорю «регуляция», я не имею в виду обязательно государственное регулирование, хотя оно тоже присутствовало в форме военных, может быть, заказов, не всегда прямое. Ну, скажем, «General Motors» или «General Electric» – это гигантские корпорации, у которых существуют плановые отделы. Как когда-то шутил Джованни Арриги, говорит: «В Соединенных Штатах не один госплан, а 600, но они координируются между собой». Монополистический, но плановый рынок возникает. МЕДВЕДЕВ: Да, олигополия такая. ДЕРЛУГЬЯН: Да. Успех американской модели, большого бизнеса, больших профсоюзов и большого правительства в 50-60-е годы был как раз в том, что они вобрали в себя не только оборонные издержки и производственные издержки, но издержки транзакционные. Эти корпорации и стали рынком, они регулировали рынок. МЕДВЕДЕВ: И социальные издержки, сумев распространить благополучие. ДЕРЛУГЬЯН: А вот нет. Вот социальными издержками... Они сумели благополучие распространить на собственный рабочий класс. МЕДВЕДЕВ: Собственно, на две трети населения. ДЕРЛУГЬЯН: Вот здесь и начинается большая проблема, да. Тем самым, давайте я вернусь все-таки к книге, Рэндалл Коллинз вдруг замечает, что Маркс был неправ, когда предсказывал, что капитализм на Западе приведет к обнищанию рабочего класса, к исчезновению среднего класса, это динамика XIX века. Но мы забываем, чем был средний класс XIX века. Это были, скажем, мастеровые, ткачи, это были лавочники всевозможные, которые отвечали за качество своего продукта, очень им гордились, и которых пожрала крупная промышленность. Пришли большие монополии. Средний размер фирмы в XIX веке в Великобритании был 50 человек. Это действительно «Мистер Смит и сыновья». Один клерк – мистер Смит. А тут, с 1870-х годов, поднимаются гигантские корпорации германские и затем американские. Так вот, Маркс, считает Рэндалл Коллинз, может быть, окажется прав именно в том, от чего отказались сами марксисты. А давайте я просто скажу, что проблема огромная. В социальных науках проблема в том, что очень большие наводки идеологические, очень трудно объяснить что-либо экономисту по одной очень простой причине: потому что экономисты работают на крупные корпорации. Большая часть просто дохода даже академического экономиста происходит от консалтинга. Нельзя выпасть из обоймы, сказав что-нибудь такое, за что тебя сочтут каким-нибудь радикалом. Рэндалл Коллинз вовсе не радикал, это президент Американской Социологической Ассоциации, сын карьерного дипломата. Кстати, вырос он в Москве, отец его был советником посольства США в конце 40-х годов, при Сталине. Он вспоминает как раз, как помнит, как отец вслушивался в речи Сталина и Молотова, пытаясь хоть что-нибудь понять про направление советской внешней политики. Рэндалл Коллинз, безусловно, просто часть американского истеблишмента. И вдруг этот человек говорит, что со средним классом сегодня из-за информационных технологий происходит именно то, что Маркс предсказывал в XIX веке по отношению к рабочим: машины заменят людей. Маркс оказался неправ, потому что в конце XIX века, в XX веке рабочих начали превращать в средний класс прежде всего потому (чего Маркс не понял), что велись мировые войны. Маркс недооценивал фактор войны, Энгельс, кстати, его понимал гораздо лучше. Маркс не предполагал, что капитализм может кончиться от столкновения между несколькими державами. Так вот, социальные государства XX века (которые, кстати, начинаются с бисмарковской Германии, первый – это государственный социализм Бисмарка) – это форма социального обеспечения бывших солдат или будущих солдат. Я про это слишком много знаю, могу долго об этом говорить. Но один только G.I. Bill... МЕДВЕДЕВ: Да, здесь просто, я думаю, сейчас на этой точке мы сделаем небольшую паузу и все-таки в дальнейшем попытаемся понять, каким образом капитализм, как он сформировался к XX веку, и как нынешняя Россия вписывается в этот глобальный капитализм. Реклама. *** МЕДВЕДЕВ: И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о кризисе. «Есть ли будущее у глобального капитализма?» У нас в гостях профессор Нью-Йоркского университета Георгий Матвеевич Дерлугьян. Вот мы, собственно, такими большими штрихами набросали историю глобального капитализма, начиная с той эпохи, когда 400 с лишним лет назад на берегах Северной Атлантики в Голландии он появился, и впервые купцы смогли подтвердить свое экономическое господство пушками. Мы прошли через голландскую эпоху, мы прошли через британскую эпоху могущества, через американскую эпоху в XX веке. Но вот мы подходим, собственно, к тому формату, в котором капитализм оказался сегодня. Я хотел бы в этой части поговорить о России. В какой степени вы разделяете эту гипотезу догоняющей модернизации, то, что Россия на протяжении столетий вечно оставалась с этим, если Гайдара слушать, 50-60 летним лагом от стран Запада, долгое время примерно с 1% мирового ВВП, и, так сказать, остается ли эта метафора догоняющего и сейчас? ДЕРЛУГЬЯН: Думаю, вполне. Россия – очень успешный догонятель, кстати, один из самых успешных. Очень простой тест эмпирический здесь. Давайте посмотрим на 1550 год, скажем. Где у нас великие державы? Это Китай, это великие моголы в Индии, это турки, это персы, это испанцы в Европе. Это русские, которые только что возникли на горизонте, и японцы, возможно. 1990 год – где Китай, где Индия? Что произошло с турками, что произошло с персами? Да, в общем, и Испания... МЕДВЕДЕВ: Всех подавила Европа. ДЕРЛУГЬЯН: Кроме России и Японии. МЕДВЕДЕВ: Япония – фактически уже коммодор Перри приплыл в Японию и, так сказать, Япония тоже уже копировала американские технологии. ДЕРЛУГЬЯН: Вот спасибо. МЕДВЕДЕВ: Это логика Маршалла По, вот эта у него знаменитая книжка «The Russian Moment in World History». Россия одна могла противостоять на протяжении 500 лет этой гигантской машине глобального капитализма. ДЕРЛУГЬЯН: Но противостояла-то почему? Потому что очень жестокая эксплуатация крестьянства, во-первых, очень большая территория, много крестьян, которых можно было выжать, которых можно было загнать рекрутскими поборами. Ну и жесткий контроль над собственными элитами. Они фактически все были на государственной службе. МЕДВЕДЕВ: Те же самые крепостные, по большому счету. ДЕРЛУГЬЯН: Ну почти, но очень хорошо организованные крепостные. Вот это принудительная такая компенсация за нехватку капиталистических рыночных ресурсов, но она срабатывала. То же самое и у японцев. И плюс – постоянный страх, потому что близко с Европой, постоянный комплекс неполноценности. У японцев это коммодор Перри, в случае с Россией я думаю, что это ливонские войны, еще гораздо раньше, это смутное время и осознание теми элитами, что Запад надо копировать. Я, кстати, не согласен, что японцы копировали американскую модель. Японцы копировали как раз таки германскую модель, и в России тоже. МЕДВЕДЕВ: Я имею в виду технологии, что японские инженеры, из чего эта «NEC» родилась, «Nippon Electric Corporation», я так понимаю, целая группа японских инженеров просто тупо сидела на американских заводах. ДЕРЛУГЬЯН: Это был «Siemens». И кстати, в России тоже электрификация конца XIX века – это тоже «Siemens». МЕДВЕДЕВ: Тоже «Siemens»? ДЕРЛУГЬЯН: Да. А «Siemens» в Японии с 1904 года, если я не ошибаюсь. А «Siemens» – это очень показательный пример: полковник Сименс происходил из многодетной крестьянской семьи. Один из его братьев получил образование в бесплатном прусском государственном университете, ныне берлинском, гумбольдтовском, который первый реально современный университет, создан в 1810 году в качестве прусского ответа на наполеоновские войны. МЕДВЕДЕВ: О чем это? «Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель», – если вы помните. ДЕРЛУГЬЯН: Да-да-да. И как компенсировать прусскую эту слабость? Вышли из крестьян. Один из братьев Сименсов изобретает один из вариантов электрического телеграфа, а его брат-полковник буквально был вызван к своему начальству командному, которое ему просто приказало уйти в отставку, стать частным предпринимателем, но частным предпринимателем каким: «Вот вам деньги из государственного банка, вот вам заказ от военного министерства – прокладывайте телеграфные линии». Он берет под козырек, просто: «Jawohl, Herr Oberst!» – пошел в отставку и стал корпорацией «Siemens». Этот вот путь как раз больше подходил для стран, где не хватало частного капитала, способного провернуть такого рода операции. Ну и, конечно, бюрократия боялась допускать такой капитал, им было легче действовать с зависимыми предпринимателями. Это путь российской индустриализации. Наше достижение и наша беда одновременно в том, что этот путь был исчерпан в 50-е годы. Мы не можем быть Китаем, мы не можем быть той же самой Россией стародавней просто потому, что крестьян не осталось. Мы стали образованным средним классом или рабочими, которые требовали, по крайней мере, ожидали жить так, как на Западе. То же самое произошло в результате Первой, а особенно – Второй мировой войны с западными рабочими: они стали квалифицированной, но очень дорогой рабочей силой. Там произошел демографический переход, мало детей одновременно, и еще в 50-60-е годы эту рабочую силу покупали. Вот вы упомянули уже: социальное воспроизводство – вот это стало огромной проблемой капитализма: надо кормить огромное количество людей, которые желают быть поэтами, писателями, читать книги или как-то реализоваться. Ну, население, которое уже невозможно загнать на фабрику на 12 часов работать за 50 центов в час, как это еще, наверное, можно в Бангладеш. Вот в этом огромная проблема капитализма, потому что в самом центре он сталкивается с населением, с которым что-то надо делать, его как-то надо устраивать. Раньше оно само себя кормило в деревнях и раньше над ним надзирали урядники какие-нибудь и местные помещики, а что теперь делать с этим постиндустриальным населением центров капитализма? И Рэндалл Коллинз предлагает, на мой взгляд, очень элегантную теорию, которая бьет просто промеж глаз. Говорит, что кризис капитализма в XX веке не случился, потому что удалось бывший рабочий класс перевести в средний класс, а в XXI веке компьютерные технологии уничтожают работы, которые были доступны среднему классу. МЕДВЕДЕВ: А как же вся эта теория креативного класса? Производство стоимости в новых виртуальных областях, создание идей и так далее? ДЕРЛУГЬЯН: Ради бога. Сколько людей могут создавать идеи и причем за это получать деньги? МЕДВЕДЕВ: Ну, идет конкуренция за эти… ДЕРЛУГЬЯН: Конкуренция еще какая! Вы поглядите, что происходит: у меня просто в кабинете, в Чикаго, есть специальное плакательное кресло, куда приходят мои студенты и говорят: «Вот, я хочу заниматься, скажем, историей чего-нибудь или искусствоведением, а папа сказал, что он не будет платить за обучение». А обучение, извините, все-таки 46 тысяч долларов в год. У моих студентов в Соединенных Штатах широко открыты три возможности: они могут специализироваться в бизнесе, медицине или политологии, которая введет их в юриспруденцию – все. За такие деньги, извините, нельзя заниматься образованием. Это инвестиция в будущее, которая должна отплатить, потому что их семьи делают весьма азартную ставку – они вкладывают 200 тысяч долларов в ребенка (поэтому у вас не может быть много детей), они вкладывают эти 200 тысяч долларов, ожидая, что ребенок, получив диплом, найдет себе работу. Ну, посмотрите, как плодятся сейчас магистерские программы, ведь последние 20 лет они на самом деле только так расплодились. Что угодно уже придумывается, потому что огромное давление на университеты со стороны их администраций: придумывайте коммерческие программы любой ценой. И сейчас уже с бакалаврским дипломом вы не найдете никакой работы. Очень скоро просто потребуется уже Ph.D. для того, чтобы подавать содовую воду в баре. МЕДВЕДЕВ: Хорошо, возвращаясь к основной теме: и это что – один из параметров нынешнего кризиса и неизбежного заката капитализма, перепроизводство квалифицированных специалистов, перепроизводство среднего класса? ДЕРЛУГЬЯН: Так считает Рэндалл Коллинз. Это одна из теорий представленных, не буду уже вдаваться в другие теории здесь, скажем. Очень кратко только скажу, что у Майкла Манна апокалиптическое свое мнение, значит: с капитализмом все будет в порядке, если только не случится атомная война или какой-нибудь непреодолимый экологический кризис. У Валлерстайна несколько другой подход, он задает страшный, в принципе, вопрос, он говорит: «Что станет с американскими и европейскими корпорациями, когда на мировом рынке появятся 10 тысяч китайских мировых корпораций? Что будет с производителями, скажем, «BMW» в Баварии, когда «BMW» разорится, как уже разорился «Volvo», когда он будет приобретаться китайцами, а в какой-то момент он станет не нужен китайцам? Вот что будет с этим регионом капитализма?» У Рэндалла Коллинза очень простой вопрос, он говорит: «Если у вас структурная безработица среди образованных людей достигает 50-60-70%?» Судя по всему, к этому и идет. В Западной Европе, скажем, у вас огромное количество студентов, которых уже невозможно послать, как сейчас пытаются послать их в Греции. В Греции сколько вариантов сейчас у молодежи – три, в общем-то: стать моряком на одном из этих греческих торговых судов, стать официантом в одном из греческих отелей и стать сборщиком маслин. МЕДВЕДЕВ: «Kalamata». ДЕРЛУГЬЯН: Да. Что остается дальше? А у вас при этом довольно много студентов. Вот стоит ли ожидать, что эти люди, которые ожидают жить не в доме, так в квартире, по крайней мере, которые ожидают в какой-то момент жениться и иметь не десять детей, но хотя бы двух, которые ожидают ездить в отпуск, которые ожидают нормального образа жизни среднего класса – вот если они не найдут этот образ жизни? Ну, не знаю, вы упомянули креативщиков, гораздо серьезнее, по-моему, биржевые игроки. Но не могут же быть все, скажем, не могут быть 30% населения быть биржевыми игроками. Нет столько мест на бирже. Вот здесь большую затыку видит Рэндалл Коллинз, и меня это как раз поразило, потому что Коллинз очень спокойный человек, в общем-то, не отличающийся левыми взглядами, но он ставит вопрос просто ребром, говорит: «Каковы будут политические последствия долгосрочной структурной безработицы в среднем классе, когда безработица достигает 50-60%, может быть, даже 80% процентов трудоспособного населения? За что они проголосуют на выборах? Будут ли после этого вообще выборы?» В последний раз мы такое видели где-то в начале 30-х годов, и мы видели, что там, в первую очередь, проваливаются центристские партии. Позвольте такой… Анекдот всегда лучше, чем теория. Анекдот, как Эрик Хобсбаум, великий историк современности, рассказывает, как он стал коммунистом. Хобсбаум в 1932 году учился в гимназии в городе Берлине, в Германии. Ну, он был очень амбициозный молодой парень и, конечно, менее всего хотелось быть консерватором или либералом, говорит: «Это джентльмены в цилиндрах, с моноклями – довоенного, до 1914 года вида, но это было просто не клево совершенно. Клево – это были фашисты, они в такой замечательной черной форме, они так маршируют. Но я – еврей, меня в фашисты не приняли. И оставалось что? Либо стать сионистом, но ехать куда-то в Палестину, возделывать там пустыню в кибуце? Вот поэтому стал коммунистом, единственное, что оставалось». Мораль этой басни в том, что в периоды кризиса проваливается политический центр. Мы это довольно хорошо знаем по многим мировым событиям, и тогда возникают крайние силы. МЕДВЕДЕВ: Хорошо. Ну, понятно, просто у нас остается буквально несколько минут. Довольно-таки апокалиптические предсказания. Хорошо, какой же выход из всего из этого возможен, и как в это во все вписывается Россия? Структурная безработица в странах развитого капитализма, информационный капитализм не может обеспечить новые источники роста. Все это накладывается на крупные политические риски, все растущий экологический кризис. Какие, собственно, существуют альтернативы – посткапитализм, постматериальный капитализм? ДЕРЛУГЬЯН: Да нет, что вы! Всегда надо спрашивать в таких случаях: «А покажите мне, как это будет работать». Самая вероятная альтернатива капитализму – это, к сожалению, фашистское общество. Или, скажем, это некий неофашизм, где часть населения обеспечивает себя вполне тоталитарными средствами за счет другой части населения. Возможно, населения планеты. Это, возможно, какие-нибудь экологические фашизмы, поскольку что такое фашизм и что такое коммунизм? Коммунизм – это резкая эскалация социалистической программы перераспределения, а фашизм – это резкая эскалация националистической программы, перераспределение в пользу определенной нации или расы. Национализм гораздо легче мобилизовать, чем социализм, к сожалению, просто потому, что более реальные, более живые деления – на расы, нации, гендеры. МЕДВЕДЕВ: Ну, более широкая база потенциальная, мобилизационная. ДЕРЛУГЬЯН: Более эмоциональная. МЕДВЕДЕВ: Да, более эмоционально заряженная. ДЕРЛУГЬЯН: Гораздо труднее людей убедить делиться, чем отобрать или, скажем, прижать к себе свое кровное. МЕДВЕДЕВ: Георгий Матвеевич, у нас минута осталась в эфире. Не оставляйте нас с такой вообще альтернативой. ДЕРЛУГЬЯН: Давайте изучать, давайте смотреть, как это может быть. Но я просто хотел сказать, что Россия может встраиваться в мировую систему, которой может не оказаться. Надо думать, что нам изучать в следующие 30 лет. Вполне возможен вариант какого-то социализма. Я что хочу просто сказать: то, что было в XX веке, очень трудно назвать социализмом. Это была мобилизационная экономика советская. МЕДВЕДЕВ: В России. ДЕРЛУГЬЯН: Да, советская мобилизационная экономика. Это был, если хотите, очень развитый вариант немецкой системы, которая производила много танков и экипажей к этим танкам. Какая-то система, которая, видимо, будет воспроизводить находки 50-х годов на Западе. Некая социал-демократия. Как это, опять же, я хочу спросить тогда, как это будет работать? Я не пророк, мой призыв к тому, что все это надо изучать, надо просчитывать, мы должны работать, как инженеры. Хочешь сказать, что человек должен летать? Покажи, как он будет летать, и как он еще и благополучно приземлится. МЕДВЕДЕВ: Широкие мазки, тяжелые вопросы, нелегкие альтернативы. У нас в гостях был Георгий Матвеевич Дерлугьян, профессор Нью-Йоркского университета. Ну, действительно, по крайней мере, я ухожу из этой студии с одним вопросом: что, мы так активно последние 20 лет встраивались в систему глобального капитализма, так пестовали в себе это индивидуалистическое и капиталистическое сознание, но, как всегда, Россия может опоздать, как у нас даже догоняющая модернизация, и мы в результате придем на некое пепелище. Так что те вопросы, которые здесь сегодня ставились в нашей студии, я думаю, мы все себе будем ставить в грядущие годы, в том числе и у нас, в нашей стремительно меняющейся политической и экономической системе. Это была программа «Археология», продюсер программы – Дина Турбовская, за пультом Евгений Лабыч. Я, ваш верный археолог – Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. [finam.fm] |
| Тема | Написано | Дата |
|---|---|---|
 Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян) Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян) |
sult | 28.06.2012 14:38 |
  Отв: Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян) Отв: Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян)
|
nekto | 29.06.2012 02:24 |
   Отв: Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян) Отв: Есть ли будущее у капитализма? (Дерлугьян)
|
sult | 29.06.2012 23:14 |
В онлайне
Гости: 80